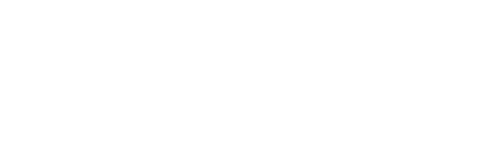АЯ МАКАРОВА И ТАТЬЯНА БЕЛОВА
ДЛЯ @BWAYMSK
ДЛЯ @BWAYMSK
10. Между фигурой и фоном
Романтическая опера XIX века подарила свой устойчивый и коммерчески успешный шаблон голливудскому кинематографу века двадцатого. И он принял его тем охотнее, чем тотальнее и масштабнее прокатывалась по судьбам отдельных людей большая история. И захватил мир.
Батальные сцены, митинги, масштабные шествия, прежде доступные только в личном опыте, с распространением кино стали привычным зрелищем, частым и удобным фоном для снятых крупным планом человеческих жизней.
Да и сама жизнь в ХХ веке перестала быть жёстко привязанной к одному месту — спасибо транспорту, масс-коммуникациям и, конечно, масс-культуре, выросшей прежде всего на питательном кинобульоне. Не зря товарищ Ленин объявил кино важнейшим из искусств.
В жизни каждого человека становилось всё больше и больше постоянно присутствующих чужих. Многоквартирные дома. Телевидение и пресса, доставляющие кадры из разных точек мира. Государственная риторика, апеллирующая к общей — массовой — идее и общим интересам. Привычка быть в курсе новостей, чтобы ощутить себя частью большого потока жизни, становится все более неискоренимой. Чем больше совершенствуются информационные технологии, тем меньше индивидуального пространства остается в сознании.
Батальные сцены, митинги, масштабные шествия, прежде доступные только в личном опыте, с распространением кино стали привычным зрелищем, частым и удобным фоном для снятых крупным планом человеческих жизней.
Да и сама жизнь в ХХ веке перестала быть жёстко привязанной к одному месту — спасибо транспорту, масс-коммуникациям и, конечно, масс-культуре, выросшей прежде всего на питательном кинобульоне. Не зря товарищ Ленин объявил кино важнейшим из искусств.
В жизни каждого человека становилось всё больше и больше постоянно присутствующих чужих. Многоквартирные дома. Телевидение и пресса, доставляющие кадры из разных точек мира. Государственная риторика, апеллирующая к общей — массовой — идее и общим интересам. Привычка быть в курсе новостей, чтобы ощутить себя частью большого потока жизни, становится все более неискоренимой. Чем больше совершенствуются информационные технологии, тем меньше индивидуального пространства остается в сознании.
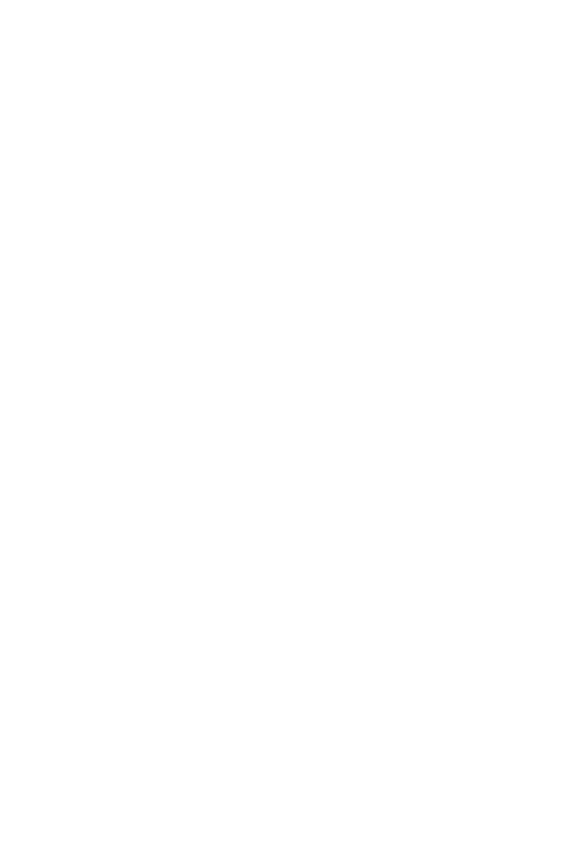
Показательная игра Анатолия Карпова в 1978-м (после первой победы над Виктором Корчным) на спортивном празднике, посвященном XVIII съезду ВЛКСМ.
Коллизия «люди на фоне истории» в «Шахматах» ветвится и меняет облик. С одной стороны, герои вымышлены: ни Фредерика Трампера, ни Анатолия Сергиевского никогда не существовало, хотя в каждом из них можно отыскать черты исторических прототипов. С другой — действуют они во вполне узнаваемом мире, где есть Москва и Мерано, Бангкок и Будапешт. Где летоисчисление совпадает с нашим календарем. Где известны имена чемпионов мира по шахматам, которые можно найти в любой тематической литературе. Наконец, в этом мире есть США и СССР — самые настоящие и узнаваемые.
Атмосферу жизни в Советском Союзе, возможно, лучше всего рисуют оговорки Сергиевского, рассыпанные по разным его высказываниям. Рассказывая о своих мечтах и страхах в первом монологе, он жалуется на то, что кто-то постоянно присутствует с ним рядом — не просто ожидая, пока он упадет (а в английской версии и вовсе готовый пристрелить), но и неизменно вступая с ним в странные отношения. Я всего добиваюсь, сетует он в оригинальном либретто, открываю двери, но в эти двери проходят незваные они.
«Они» следуют за Сергиевским по пятам, и вот уже в таверне «Мерано» он задаётся вопросом, не может ли Флоренс быть «их» агентом. По-русски «они» и «мы» противопоставлены: Анатолий чувствует свою связь если не с государством, то со страной. По-английски — нет: «Не может быть, чтобы она работала на них. В смысле, на нас» ("Now she can't be working for them — I mean us").
Тянет сказать, что «они» — это КГБ, хоть как набор симпатичных и несимпатичных агентов, хоть как безликая система. Однако враждебным Сергиевскому на самом деле кажется весь мир. После интервью он обрушивается на Флоренс: «Ты ведёшь себя так, как желают они!» А по-английски ещё и добавляет, что если та намерена плясать под «их» дудку, то он, в общем, умывает руки.
Атмосферу жизни в Советском Союзе, возможно, лучше всего рисуют оговорки Сергиевского, рассыпанные по разным его высказываниям. Рассказывая о своих мечтах и страхах в первом монологе, он жалуется на то, что кто-то постоянно присутствует с ним рядом — не просто ожидая, пока он упадет (а в английской версии и вовсе готовый пристрелить), но и неизменно вступая с ним в странные отношения. Я всего добиваюсь, сетует он в оригинальном либретто, открываю двери, но в эти двери проходят незваные они.
«Они» следуют за Сергиевским по пятам, и вот уже в таверне «Мерано» он задаётся вопросом, не может ли Флоренс быть «их» агентом. По-русски «они» и «мы» противопоставлены: Анатолий чувствует свою связь если не с государством, то со страной. По-английски — нет: «Не может быть, чтобы она работала на них. В смысле, на нас» ("Now she can't be working for them — I mean us").
Тянет сказать, что «они» — это КГБ, хоть как набор симпатичных и несимпатичных агентов, хоть как безликая система. Однако враждебным Сергиевскому на самом деле кажется весь мир. После интервью он обрушивается на Флоренс: «Ты ведёшь себя так, как желают они!» А по-английски ещё и добавляет, что если та намерена плясать под «их» дудку, то он, в общем, умывает руки.
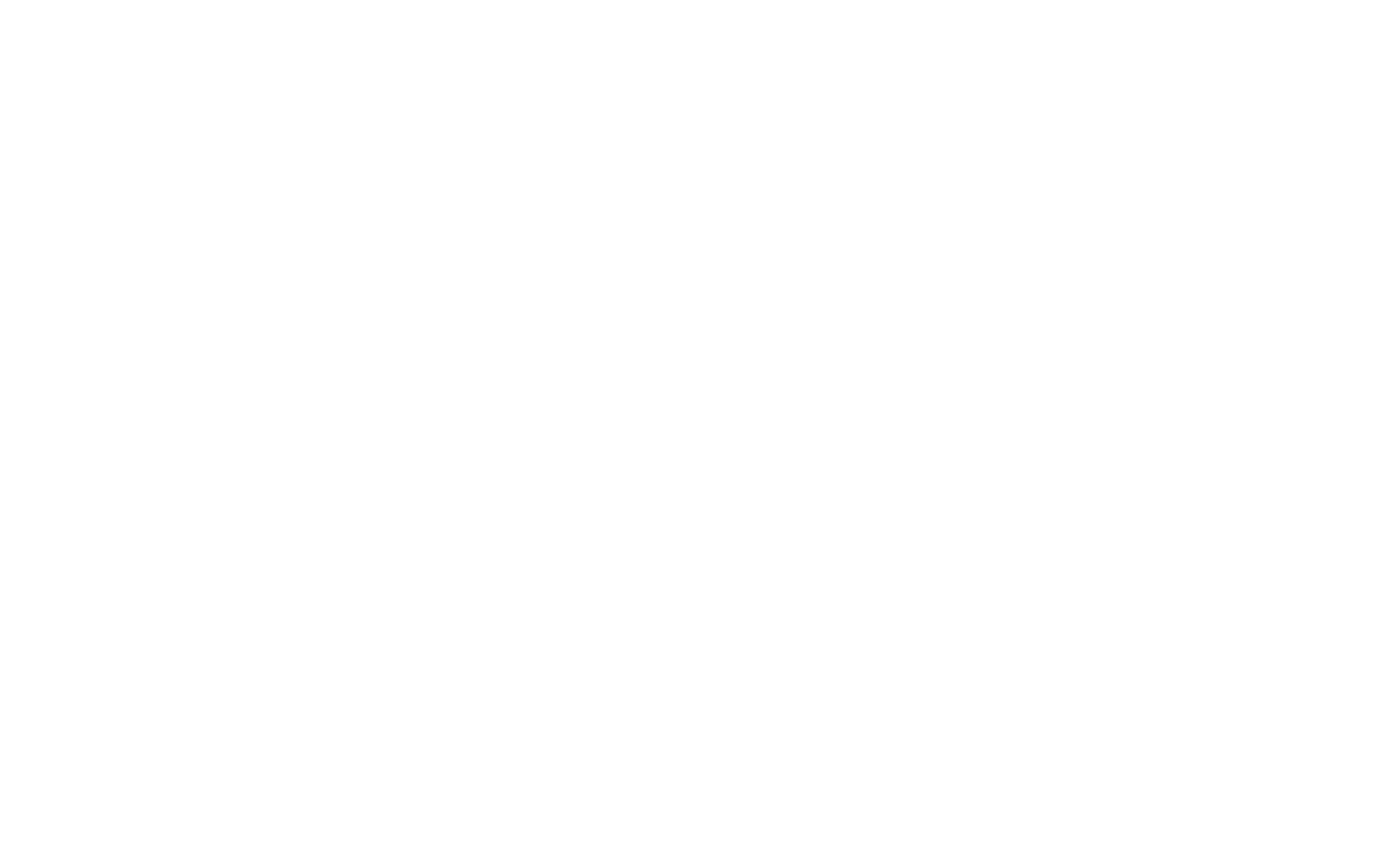
Мюзикл «Шахматы» / Юрий Богомаз
В «Эндшпиле» он начинает говорить — то есть, конечно, петь — как будто бы с середины, продолжая музыкальную фразу: «Всем им кажется, что я...» Да и важно ли, что именно «им» кажется. Важно, что смотрят они всегда, и всегда «жаждут судить каждый мой промах»: хоть в СССР, хоть в Бангкоке. «Не я смотрю изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами», — сетовал философ Михаил Бахтин.
«Они» проникают даже в ближний круг: «Есть ли кто-нибудь вокруг, кто в этот миг не ищет шанс забрать себе мой триумф, мой взлет и свободу?» — спрашивает он в либретто Алексея Иващенко. У Тима Райса вместо «этого мига» — вся его жизнь.
Можно ли заподозрить в Сергиевском диссидента? Скорее уж наоборот — интеллигента до мозга костей советского, привычно живущего в ситуации, где «им» видны все, где агентом может оказаться кто угодно, но повод это испытать не столько страх, сколько брезгливость. Лишённый возможности — а по мере привыкания ещё и желания — совершить политический жест, Анатолий ретируется внутрь себя и наглухо захлопывает дверь.
Одиночество Сергиевского выливается в постоянную оппозицию «я — они». Сергиевский окружён врагами. Как и Советский Союз. И это Фредди-то после этого — параноик с навязчивыми идеями?
Впрочем, «они» ходят не только за Сергиевским — просто не все это замечают. Флоренс поёт арию «Небо, дай мне сил» наедине с собой — но надеется, что «силы неба» её слышат. В дуэте «Я знаю его» Флоренс и Светлана подслушивают мысли друг друга. Это идеальное взаимопонимание, но это же и нарушение конфиденциальности. «В жизни каждый сам за себя», — поёт Флоренс, и хор отзывается эхом.
«Они» проникают даже в ближний круг: «Есть ли кто-нибудь вокруг, кто в этот миг не ищет шанс забрать себе мой триумф, мой взлет и свободу?» — спрашивает он в либретто Алексея Иващенко. У Тима Райса вместо «этого мига» — вся его жизнь.
Можно ли заподозрить в Сергиевском диссидента? Скорее уж наоборот — интеллигента до мозга костей советского, привычно живущего в ситуации, где «им» видны все, где агентом может оказаться кто угодно, но повод это испытать не столько страх, сколько брезгливость. Лишённый возможности — а по мере привыкания ещё и желания — совершить политический жест, Анатолий ретируется внутрь себя и наглухо захлопывает дверь.
Одиночество Сергиевского выливается в постоянную оппозицию «я — они». Сергиевский окружён врагами. Как и Советский Союз. И это Фредди-то после этого — параноик с навязчивыми идеями?
Впрочем, «они» ходят не только за Сергиевским — просто не все это замечают. Флоренс поёт арию «Небо, дай мне сил» наедине с собой — но надеется, что «силы неба» её слышат. В дуэте «Я знаю его» Флоренс и Светлана подслушивают мысли друг друга. Это идеальное взаимопонимание, но это же и нарушение конфиденциальности. «В жизни каждый сам за себя», — поёт Флоренс, и хор отзывается эхом.
Хор — обязательный персонаж античной трагедии. А ещё одна особенность мировоззрения, тоже связанная с соотношением маленького человека и гигантской силы, есть у великих шахматистов, но только в версии Алексея Иващенко. Это как раз и есть свойство античного героя. Его трагедия заключалась в противопоставлении року, судьбе, по определению великой и недружественной.
О судьбе постоянно размышляет Сергиевский: в «Там, куда хотел попасть» говорит, что не в обиде на неё, к «Эндшпилю» начинает сетовать на её обманы. Судьба несправедлива и к Трамперу: он «от судьбы своей капризной не ожидал добра», поэтому сам (вот это по-древнегречески!) выбрал путь.
Капризная судьба, видимо, и у Флоренс — не зря в «Каждый сам за себя» она советует ей не доверяться. Путь же Сергиевского как путь героя видят любящие его женщины: «В его судьбе должно быть что-то важнее, чем я!»
О судьбе постоянно размышляет Сергиевский: в «Там, куда хотел попасть» говорит, что не в обиде на неё, к «Эндшпилю» начинает сетовать на её обманы. Судьба несправедлива и к Трамперу: он «от судьбы своей капризной не ожидал добра», поэтому сам (вот это по-древнегречески!) выбрал путь.
Капризная судьба, видимо, и у Флоренс — не зря в «Каждый сам за себя» она советует ей не доверяться. Путь же Сергиевского как путь героя видят любящие его женщины: «В его судьбе должно быть что-то важнее, чем я!»
Будем честны, внимание расстраивает не всех. Хоть Фредди и жалуется, что за ним зорко следит неблагодарный мир, впервые он является как воплощённая американская мечта — успешный, богатый, с девушкой и, конечно, самоуверенный и скандальный. Добавьте щепотку стяжательства, приправьте долькой маккартизма, и чемпион готов.
Если образ СССР в массовой культуре (и пресловутом кино) — это серый обелиск тоталитарного государства, то Штаты — это, конечно, мерцающий лампочками Голливуд, а Голливуд — это фабрика разрушенных грёз, вторжения в частную жизнь и бешеных гонораров. Трампер показывает нам не только эту изнанку, но и изнанку изнанки, как бы позволяя надеть стереоочки: детские травмы — тоже сюжет очень американский.
Если образ СССР в массовой культуре (и пресловутом кино) — это серый обелиск тоталитарного государства, то Штаты — это, конечно, мерцающий лампочками Голливуд, а Голливуд — это фабрика разрушенных грёз, вторжения в частную жизнь и бешеных гонораров. Трампер показывает нам не только эту изнанку, но и изнанку изнанки, как бы позволяя надеть стереоочки: детские травмы — тоже сюжет очень американский.
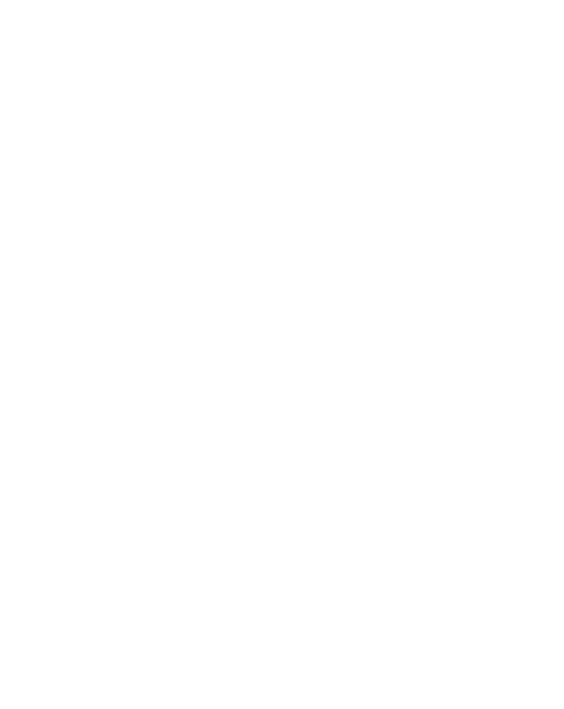
Восьмой чемпион мира по шахматам Михаил Таль выкуривал несколько пачек сигарет в день и даже на надгробии изображён с сигаретой.
В спектакле Евгения Писарева почти все персонажи курят на сцене: потому что такая была жизнь, так снимали в фильмах, и потому что струйка дыма позволяет не только почувствовать, но и увидеть себя живым. Флоренс закуривает, чтобы показать себя сильной. Фредди — потому что в Бангкоке положено быть плохим мальчиком. Молоков и Сергиевский — потому что советские мужчины без сигареты немыслимы. Хороший способ подчеркнуть брутальность (а заодно, показав, кто кому дает прикурить, продемонстрировать табель о рангах).
Для того, чтобы ощутить в «Шахматах» дух большой истории, не обязательно прописывать в диалогах подробности тревожной политики 1980-х (или примирительной — 1990-х). Даже не обязательно помнить о том, что шахматы, как и многие другие виды спорта, становились «ареной идеологической борьбы враждующих систем», и цена спортивных свершений зачастую оказывалась выше, чем научных открытий. Даже рассматривать видеохронику, прибавляющую к тому, что сказано словами и музыкой, то, что может показать кинематограф, тоже — совершенно не обязательно.
Шахматы, согласно легенде, появились на свет как способ бескровно воспроизвести ход военных действий, чтобы дать возможность тем, кто в них не участвовал, их осмыслить. «Шахматы» позволяют осмыслить и недавнее прошлое, и настоящее как жизнь на фоне непрерывно творящейся истории. Прежде всего, конечно, политической. Хотя анекдот о том, что Брежнев — это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой, когда-нибудь может и перестать быть анекдотом.
Для того, чтобы ощутить в «Шахматах» дух большой истории, не обязательно прописывать в диалогах подробности тревожной политики 1980-х (или примирительной — 1990-х). Даже не обязательно помнить о том, что шахматы, как и многие другие виды спорта, становились «ареной идеологической борьбы враждующих систем», и цена спортивных свершений зачастую оказывалась выше, чем научных открытий. Даже рассматривать видеохронику, прибавляющую к тому, что сказано словами и музыкой, то, что может показать кинематограф, тоже — совершенно не обязательно.
Шахматы, согласно легенде, появились на свет как способ бескровно воспроизвести ход военных действий, чтобы дать возможность тем, кто в них не участвовал, их осмыслить. «Шахматы» позволяют осмыслить и недавнее прошлое, и настоящее как жизнь на фоне непрерывно творящейся истории. Прежде всего, конечно, политической. Хотя анекдот о том, что Брежнев — это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой, когда-нибудь может и перестать быть анекдотом.