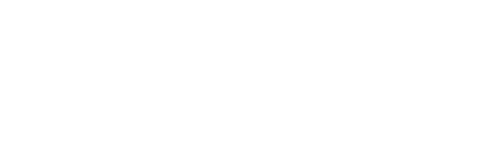АЯ МАКАРОВА И ТАТЬЯНА БЕЛОВА
ДЛЯ @BWAYMSK
ДЛЯ @BWAYMSK
3. От себя не убежишь
Чтобы спеть арию, Анатолий Сергиевский впервые остается один — до этого момента он не расставался со своим куратором от КГБ, Молоковым, а в некоторых сценических версиях мюзикла был все время окружен снующими агентами, горожанами и родственниками.
Невозможность побыть наедине с собой — одно из удручающих его обстоятельств, как и невозможность выбирать круг общения самостоятельно. Вместо того чтобы пережить важное событие — получение британского гражданства — Сергиевский вынужден давать интервью, объясняться со всем миром. Даже когда он оказывается на вольном Западе, он остаётся заложником чужих требований — теперь его жизнь определяют условия контрактов. Кажется, что Сергиевский обречен на вечную суету, и пьедестал ему нужен прежде всего затем, чтобы оказаться выше беспокоящих его людишек.
Невозможность побыть наедине с собой — одно из удручающих его обстоятельств, как и невозможность выбирать круг общения самостоятельно. Вместо того чтобы пережить важное событие — получение британского гражданства — Сергиевский вынужден давать интервью, объясняться со всем миром. Даже когда он оказывается на вольном Западе, он остаётся заложником чужих требований — теперь его жизнь определяют условия контрактов. Кажется, что Сергиевский обречен на вечную суету, и пьедестал ему нужен прежде всего затем, чтобы оказаться выше беспокоящих его людишек.
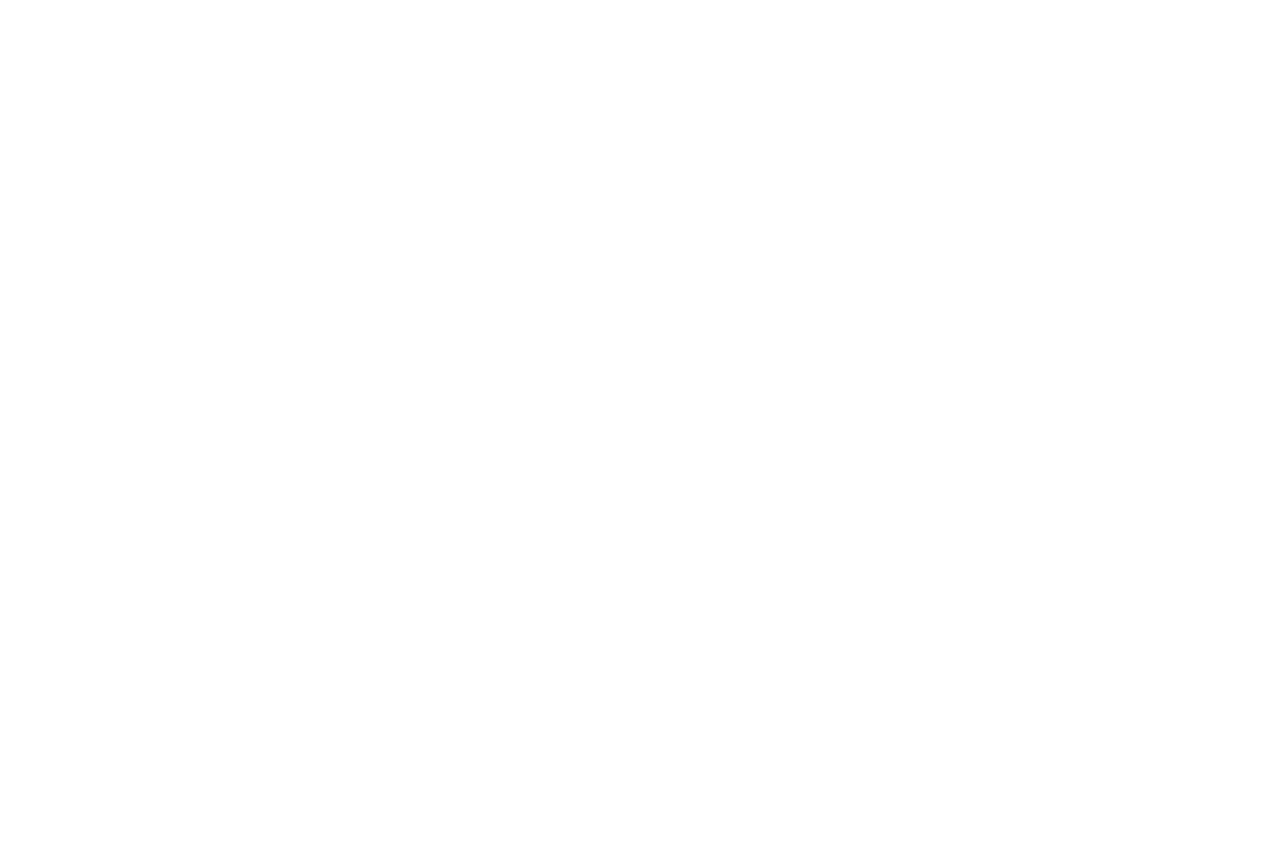
Мюзикл «Шахматы» / Валерия Терпугова
В бродвейской постановке 1988 года Молоков по прибытии на чемпионат настаивает на статусной частной партии с советским послом, однокурсником Горбачева, не слушая просьб претендента дать ему возможность сосредоточиться перед началом игры.
В австралийской версии ария убрана в середину первого акта. Размышления Сергиевского о чужих людях, дышащих ему в спину, и о том, как невозможно жить в вечной гонке, не достигая результата, начинаются тогда, когда Фредди срывает первую игру и ставит под угрозу весь чемпионат.
Убаюкивающий вальсок, которым начинается ария, как нельзя лучше подкручивает безумное колесо, crazy wheel, в котором постоянно вертится жизнь Анатолия. Но состоит оно из людей, которые сами становятся неуправляемой стихией — «море надежд» и «вихрь амбиций» в русском тексте плавно сменяются «новыми лицами».
В австралийской версии ария убрана в середину первого акта. Размышления Сергиевского о чужих людях, дышащих ему в спину, и о том, как невозможно жить в вечной гонке, не достигая результата, начинаются тогда, когда Фредди срывает первую игру и ставит под угрозу весь чемпионат.
Убаюкивающий вальсок, которым начинается ария, как нельзя лучше подкручивает безумное колесо, crazy wheel, в котором постоянно вертится жизнь Анатолия. Но состоит оно из людей, которые сами становятся неуправляемой стихией — «море надежд» и «вихрь амбиций» в русском тексте плавно сменяются «новыми лицами».
В московской версии «Шахмат» у Сергиевского и Трампера появилась общая проблема — постоянно и жадно следящий за ними объектив. «Жаждут судить каждый мой промах толпы людей малознакомых», — жалуется русский; «Я не из тех, кто жаждет мести, я не таю обид; как я могу, когда полмира зорко за мной следит?» — сетует американец.
В английской версии Сергиевский тоже жалуется на то, что окружён людьми, которых не выбирал и помогать которым не хочет (а приходится), но на избыточное внимание со стороны прессы не намекает — это западная проблема, и впервые он столкнётся с нею всерьёз, выйдя из посольства Великобритании.
В английской версии Сергиевский тоже жалуется на то, что окружён людьми, которых не выбирал и помогать которым не хочет (а приходится), но на избыточное внимание со стороны прессы не намекает — это западная проблема, и впервые он столкнётся с нею всерьёз, выйдя из посольства Великобритании.
В попытках сказать наконец хоть что-то о себе, а не об обстоятельствах, мешающих быть собой, Сергиевский рвет равномерный трёхсложный дактиль, которым написаны куплеты. Кажется, он боится, что его прервут, и от этого начинает говорить длинными — больше чем на 30 слогов! — сложносочиненными предложениями, нанизывая фразы одну за другой, почти не оставляя самому себе время взять дыхание (в музыке мы это тоже слышим).
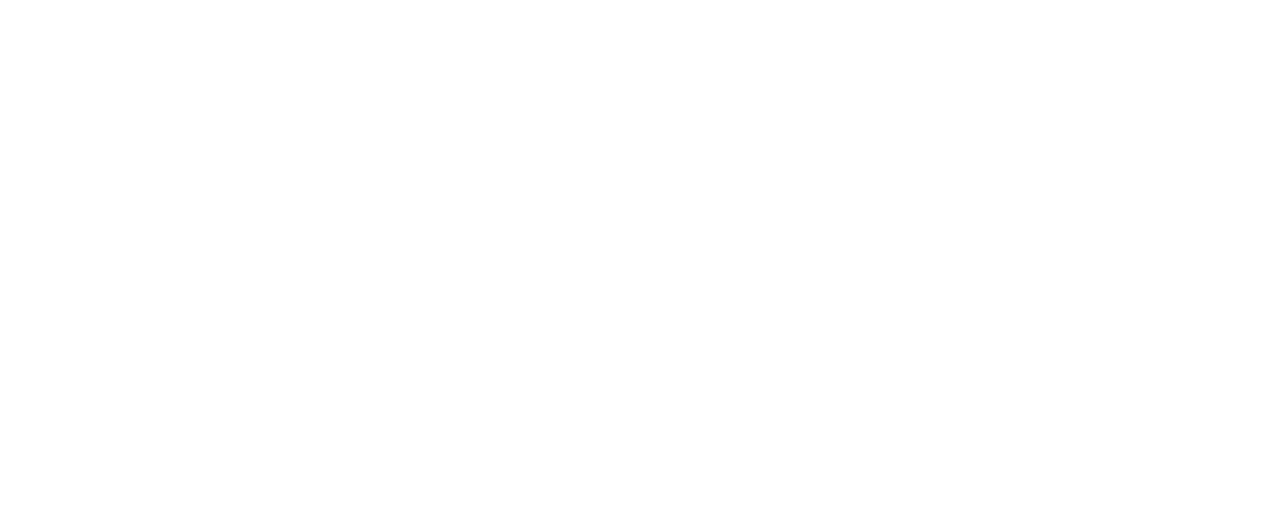
Тим Райс, а за ним и Алексей Иващенко, укладывающий русский текст в уже написанную музыку, добавляют лишние безударные (а иногда псевдобезударные) слоги в каждую стопу, и вместо одного ударного и двух безударных в каждой из них оказывается один ударный и пять безударных.
Большим мастером демонстрировать волнение героя через такую перебивку ритма речи, которая внезапно оказывается насыщена короткими лишними слогами, был знаменитый либреттист конца XIX — начала XX века Луиджи Иллика. В третьей картине «Богемы» Джакомо Пуччини Рудольф рассказывает другу о болезни своей возлюбленной Мими. Сперва он говорит медленно и размеренно, а потом не выдерживает — начинает тараторить, захлебываясь безударными слогами, не справляясь с собственным отчаянием.
Сергиевский торопится, частит, задыхается от необходимости высказаться — но в последней строке вновь, в полном соответствии с её смыслом, оказывается там, откуда начал.
Впрочем, когда боишься, что тебя прервут, можно говорить и коротко. Акцентными становятся вопросы «Как я могу уехать? Куда?» в финале первого акта и слова «нашу любовь» в финале второго. Строки, в которых они звучат, короче соседних, словно Сергиевский обрывает нить рассуждений, ставит точку одним емким словом. Делает он это от привычки скрывать мысли и чувства? Или же от того, что привык принимать быстрые решения и действовать в условиях цейтнота, поэтому и изъясняться должен коротко и решительно?
Впрочем, когда боишься, что тебя прервут, можно говорить и коротко. Акцентными становятся вопросы «Как я могу уехать? Куда?» в финале первого акта и слова «нашу любовь» в финале второго. Строки, в которых они звучат, короче соседних, словно Сергиевский обрывает нить рассуждений, ставит точку одним емким словом. Делает он это от привычки скрывать мысли и чувства? Или же от того, что привык принимать быстрые решения и действовать в условиях цейтнота, поэтому и изъясняться должен коротко и решительно?
В любом случае, ария «Там, куда хотел попасть» отчетливо презентует героя-романтика, созданного по модели персонажей Гёте, Байрона или Лермонтова. Героя, осознающего собственную исключительность, всегда одинокого и непонятого обывателями, бросающего вызов высшим силам и мирозданию, и признающего в своей жизни только великие события и свершения.
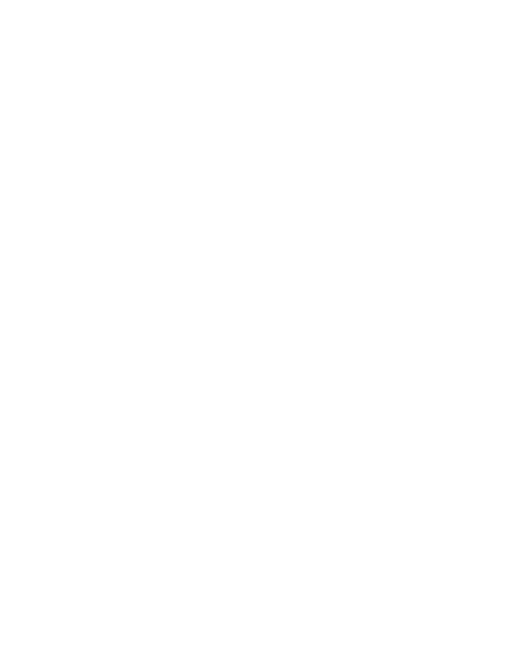
Таким авторы «Шахмат» пишут и Сергиевского: существующего среди враждебной стихии, противопоставленного и противопоставляющего себя бездумной толпе, привыкшего действовать решительно и одержимого мечтой о неведомом прекрасном месте и состоянии, где он наконец-то сможет обрести то, к чему так страстно стремится.
Пожалуй, основное отличие образа Сергиевского в московском спектакле и на концепт-альбоме — в том, что персонаж Тима Райса строит арию на горьких риторических вопросах, в то время как герой Алексея Иващенко — на нерадостных констатациях.
Сергиевский в английском либретто в этой арии является нам как персонаж безнадёжно сомневающийся, герой Достоевского. В русском — как печальный чеховский наблюдатель.
Сергиевский в английском либретто в этой арии является нам как персонаж безнадёжно сомневающийся, герой Достоевского. В русском — как печальный чеховский наблюдатель.
Неудивительно, что всеми этими качествами наделен именно русский шахматист, причем антисоветчик. В Сергиевском воплощены западные представления о загадочной русской душе, по сути своей романтичной, романтической и непостижимой, в меру экзотичной и не в меру притягательной. И, разумеется, амбивалентной.
Чего же хочет Сергиевский? Победы? Свободы? Любви? Куда он хотел попасть и в самом ли деле попал именно туда — или просто попал? Первая ария не дает ответа. Романтическому герою положено быть загадкой. Как и гражданину СССР: «всякий порыв должен скрывать я», — признаётся Анатолий. Но только сам себе.
Чего же хочет Сергиевский? Победы? Свободы? Любви? Куда он хотел попасть и в самом ли деле попал именно туда — или просто попал? Первая ария не дает ответа. Романтическому герою положено быть загадкой. Как и гражданину СССР: «всякий порыв должен скрывать я», — признаётся Анатолий. Но только сам себе.