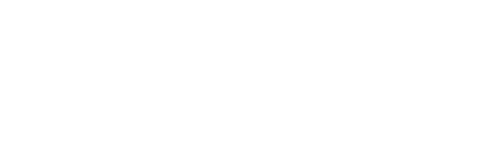АЯ МАКАРОВА И ТАТЬЯНА БЕЛОВА
ДЛЯ @BWAYMSK
ДЛЯ @BWAYMSK
9. Всё предопределено, но свобода дана
Заключительный номер первого акта называется «Гимн», но звучит он ещё и как признание в любви. Сергиевский одушевляет страну, о которой поёт (по-английски даже называет её в женском роде, а должен был бы в общем!) и клянётся ей в верности. Таких слов от него на сцене не слышит даже Флоренс.
Однако в английской версии текста Сергиевский на самом деле не говорит о Союзе (или России) как о Родине. Его Родина — страна более абстрактная и метафорическая. Её сердце не может завоевать и поработить «ни один человек и ни одно безумие», её граждане — те, кому безразличны «войны, смерть и отчаяние», она стоит неколебимо, пока «мелочные человеческие нации» рвут друг друга на кусочки, и хотя Сергиевский «пересекает границы», он «всё ещё находится там прямо сейчас».
Как вы думаете, может быть, он вообще говорит о шахматах? Ведь позже он ещё раз повторит: «шахматы — это моя жизнь».
Однако в английской версии текста Сергиевский на самом деле не говорит о Союзе (или России) как о Родине. Его Родина — страна более абстрактная и метафорическая. Её сердце не может завоевать и поработить «ни один человек и ни одно безумие», её граждане — те, кому безразличны «войны, смерть и отчаяние», она стоит неколебимо, пока «мелочные человеческие нации» рвут друг друга на кусочки, и хотя Сергиевский «пересекает границы», он «всё ещё находится там прямо сейчас».
Как вы думаете, может быть, он вообще говорит о шахматах? Ведь позже он ещё раз повторит: «шахматы — это моя жизнь».
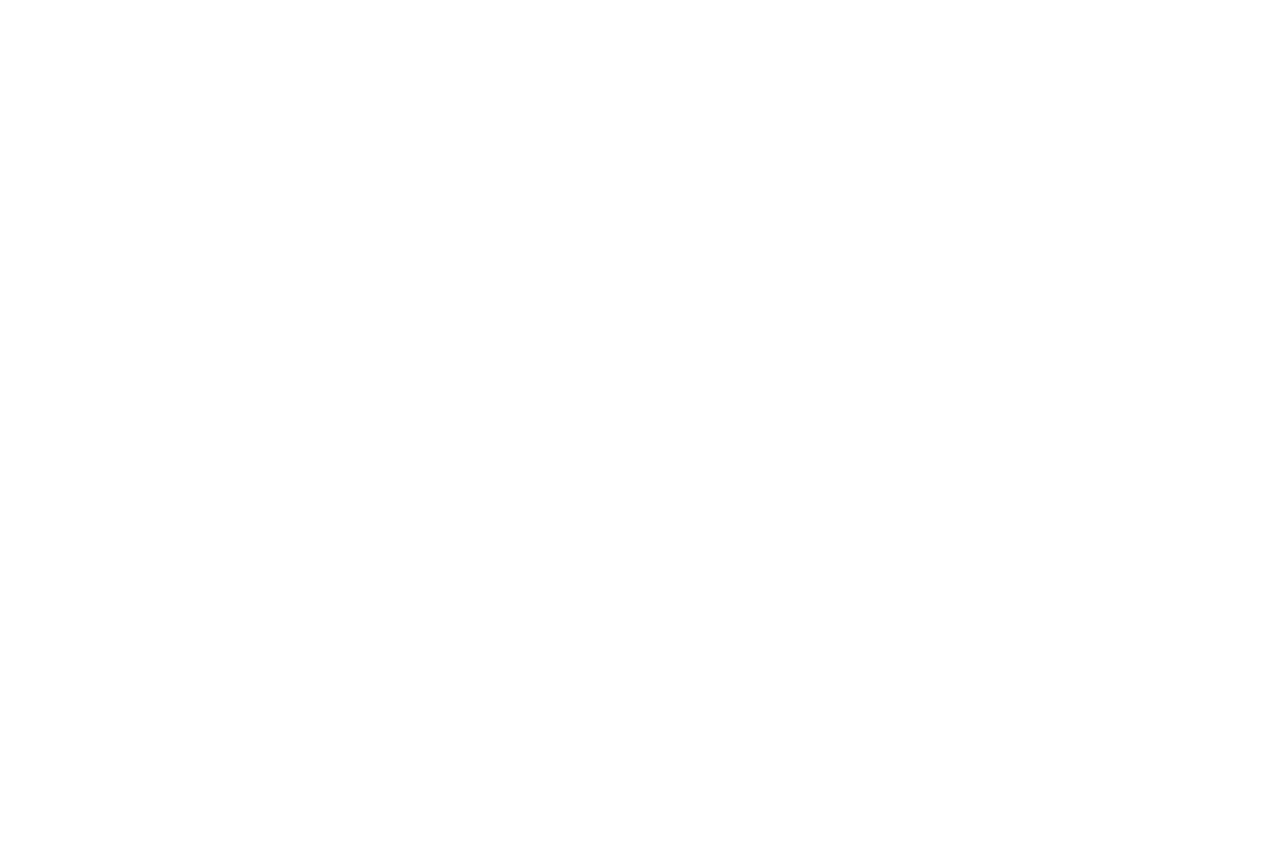
Причины эмиграции Сергиевского совсем не всегда политические. Во многих — особенно американских — версиях дело происходит в разгар перестройки, и пресса пытается усмотреть в его действиях неодобрение политики Горбачёва. «Ничего подобного!» — отвечает шахматист, а в версии американского тура 1990 года и вовсе заявляет: «Мои действия не имеют к политике никакого отношения!»
Или имеют. После аполитичной эмиграции Анатолия его семья сталкивается с карательными мерами со стороны Союза — может быть, Сергиевский просто пытается их защитить? Впрочем, за американскими постановки стояли политические драматурги, Ричард Нельсон и Роберт Коу; герой же Тима Райса, кажется, в самом деле нарочито аполитичен.
Пожалуй, русская интеллигенция того времени со стороны в самом деле казалась до неловкости аполитичной. Беря интервью у Сергиевского в Бангкоке, Фредди отчаянно провоцирует его на разговор об «антирусском крестовом походе», на что получает в ответ только «что за нелепость» и «я не политик». Похожий разговор вела американская интеллектуалка Сьюзан Сонтаг с Бродским и Довлатовым на Лиссабонской писательской конференции примерно тогда же, в 1988 году, — абстрактные идеи и теории явно были интереснее её собеседникам, чем злободневные вопросы.
Или имеют. После аполитичной эмиграции Анатолия его семья сталкивается с карательными мерами со стороны Союза — может быть, Сергиевский просто пытается их защитить? Впрочем, за американскими постановки стояли политические драматурги, Ричард Нельсон и Роберт Коу; герой же Тима Райса, кажется, в самом деле нарочито аполитичен.
Пожалуй, русская интеллигенция того времени со стороны в самом деле казалась до неловкости аполитичной. Беря интервью у Сергиевского в Бангкоке, Фредди отчаянно провоцирует его на разговор об «антирусском крестовом походе», на что получает в ответ только «что за нелепость» и «я не политик». Похожий разговор вела американская интеллектуалка Сьюзан Сонтаг с Бродским и Довлатовым на Лиссабонской писательской конференции примерно тогда же, в 1988 году, — абстрактные идеи и теории явно были интереснее её собеседникам, чем злободневные вопросы.
Однако это — взгляд снаружи. Изнутри ситуация видится совсем иной.
В переводе Алексея Иващенко Сергиевский говорит о вещах гораздо более конкретных: о «злых безумцах, что страну в пропасть завели». Граница в сердце Сергиевского — это граница его настоящей страны, это территория, где он прячет и бережёт её от политических неурядиц. Это то неизменное, что заставляет его Родину любить, и даже живя за границей не считать себя иностранцем.
Поэтому в спектакле Евгения Писарева подпевающий ему хор одет в утрированно советские наряды: каким бы глубоким языком ни пользовался Анатолий, он и его страна связаны неразрывно, и сказать он хочет именно это. Может быть, о себе — более, чем о стране.
В переводе Алексея Иващенко Сергиевский говорит о вещах гораздо более конкретных: о «злых безумцах, что страну в пропасть завели». Граница в сердце Сергиевского — это граница его настоящей страны, это территория, где он прячет и бережёт её от политических неурядиц. Это то неизменное, что заставляет его Родину любить, и даже живя за границей не считать себя иностранцем.
Поэтому в спектакле Евгения Писарева подпевающий ему хор одет в утрированно советские наряды: каким бы глубоким языком ни пользовался Анатолий, он и его страна связаны неразрывно, и сказать он хочет именно это. Может быть, о себе — более, чем о стране.
Нужно заметить, что речь Сергиевского — это только по видимости речь эгоиста (помните, Флоренс обвиняет его в том, что он злоупотребляет словом «я»?). Для него всегда в центре внимания — люди, и он много пользуется местоимениями, обращается к собеседнику напрямую. В пресловутом интервью он прекращает поток вопросов Фредди, сказав ему в лицо: «Ты отлично знаешь, что моя жизнь — это шахматы».
Совсем другая стратегия — у Фредди, который любит, чтобы всё можно было рассортировать по категориям, например «коммунист, демократ». Даже во время роковой ссоры с Флоренс он не оскорбляет её напрямую, а говорит про женщин в целом, да ещё и не про всех: «средь вас, женщин, много есть женщин, что, боясь неудач, и свою предвидя старость, предадут и уйдут, позабыв даже тех, кто всегда был с ними были рядом». Самого себя он тоже предпочитает считать просто абстрактным «мальчишкой», о котором можно говорить отстранённо.
Совсем другая стратегия — у Фредди, который любит, чтобы всё можно было рассортировать по категориям, например «коммунист, демократ». Даже во время роковой ссоры с Флоренс он не оскорбляет её напрямую, а говорит про женщин в целом, да ещё и не про всех: «средь вас, женщин, много есть женщин, что, боясь неудач, и свою предвидя старость, предадут и уйдут, позабыв даже тех, кто всегда был с ними были рядом». Самого себя он тоже предпочитает считать просто абстрактным «мальчишкой», о котором можно говорить отстранённо.
Добавим, что признаниями в любви можно считать оба звучащих в спектакле гимна, ведь другой — это «Гимн шахматам», и поют его все персонажи истории, кроме Светланы. Хочется верить, что делают они это от души.