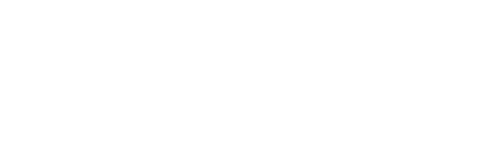АЯ МАКАРОВА И ТАТЬЯНА БЕЛОВА
ДЛЯ @BWAYMSK
ДЛЯ @BWAYMSK
12. Три кита и черепаха
Любовный конфликт и соперничество в сюжете мюзикла организуются в стандартные драматургические треугольники: два соперника-мужчины борются за женщину, две соперницы-женщины — за мужчину. Треугольники соединяются на любовной линии Сергиевского и Флоренс, образуя устойчивый ромб. Подобную конструкцию можно обнаружить в итальянских романтических операх, а затем и в кино, унаследовавшем от оперного театра и страсть к бурным эмоциям, и сценарные принципы. Любовные линии удерживают сюжет, привязывая его к традиции и литературной, и театральной.
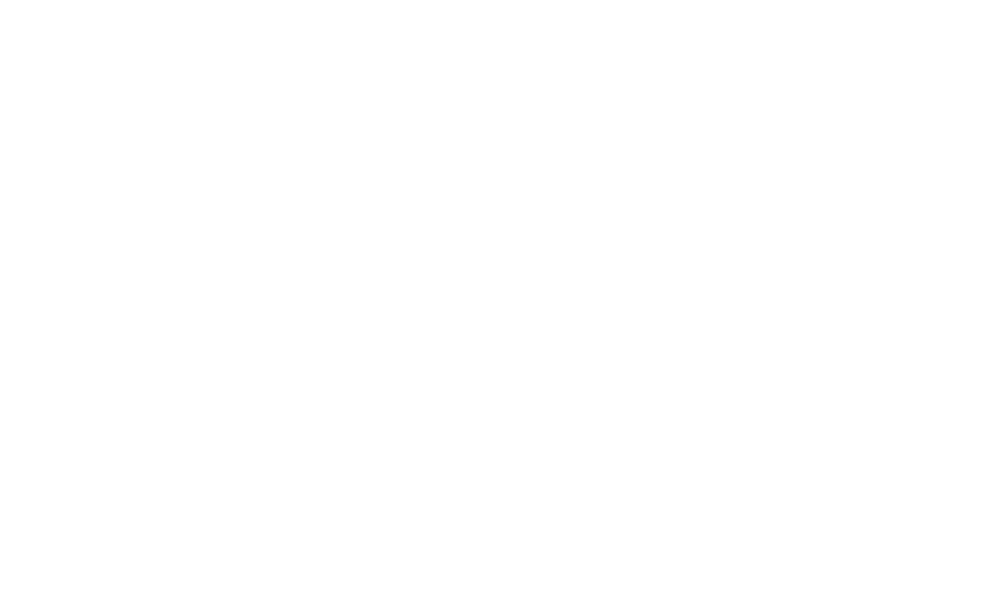
Политические проблемы, хоть в варианте холодной войны, хоть в варианте временной оттепели в отношениях двух стран, отвечают за привязку вымышленного мира к реальной истории, к узнаваемому ХХ веку на планете Земля. Будапештское восстание и его разгром становятся для «Шахмат» лейтмотивом и текстовым, и музыкальным. Возможность дружеских или любовных отношений напрямую зависит от политической позиции: увидев разговор Флоренс с Сергиевским в таверне «Мерано», Фредди не столько ревнует любовницу к сопернику, сколько приходит в ярость от самой мысли о том, что Флоренс, пострадавшая от коммунистов, может миролюбиво вести диалог с одним из них.
Московский спектакль делает эти прошивающие партитуру ниточки политических процессов наглядными, превращая их почти в корабельные канаты: большую часть сцены занимают проекции советского и американского флагов, кадры кинохроники, иллюстрирующие победы и проблемы каждого из государств. Балет, ракеты, полки магазинов, лозунги на стенах кубинских домов нависают над людьми, почти заслоняя собой то, чему должны бы быть всего лишь фоном: саму игру.
Московский спектакль делает эти прошивающие партитуру ниточки политических процессов наглядными, превращая их почти в корабельные канаты: большую часть сцены занимают проекции советского и американского флагов, кадры кинохроники, иллюстрирующие победы и проблемы каждого из государств. Балет, ракеты, полки магазинов, лозунги на стенах кубинских домов нависают над людьми, почти заслоняя собой то, чему должны бы быть всего лишь фоном: саму игру.
Действие мощных исторических сил хорошо катализирует на сцене сильные страсти. Пожалуй, чемпионом применения политики для усиления эффекта от любовных переживаний героев, был Джузеппе Верди. В фокусе его опер всегда люди и их чувства, но для масштаба Верди то и дело использовал масштабные события — к примеру, бунт покоренных древнеегипетской империей племен («Аида»), избрание дожа Генуэзской республики («Симон Бокканегра») или бесконечные территориальные войны («Трубадур»).
Проработка деталей и связность изложения обстоятельств исторического конфликта при этом сильно отходила на второй план — гораздо важнее был сам факт кажущейся несоразмерности человека и социума, неизбежного вторжения общественного в частное.
Проработка деталей и связность изложения обстоятельств исторического конфликта при этом сильно отходила на второй план — гораздо важнее был сам факт кажущейся несоразмерности человека и социума, неизбежного вторжения общественного в частное.
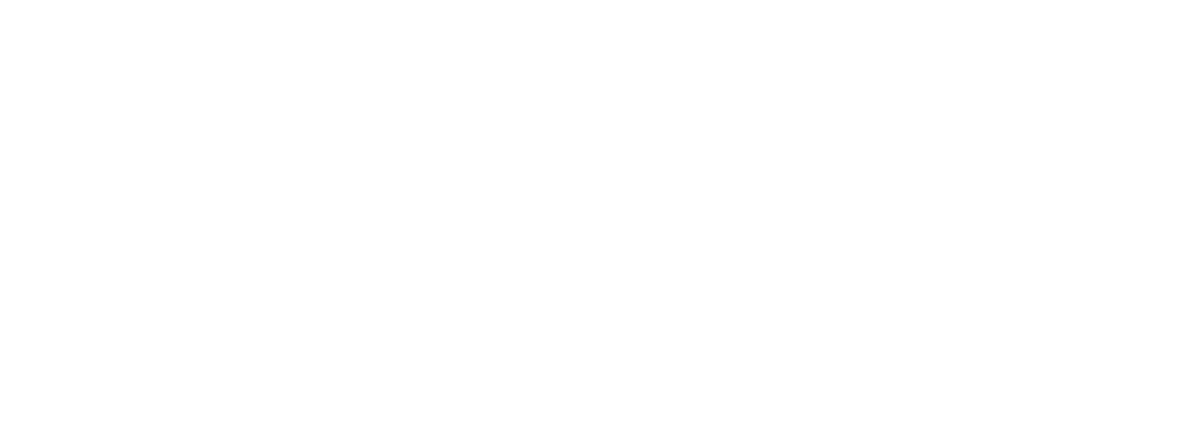
Любовь и политика сталкивались и в жизни, и в искусстве с древних времен. Эти киты хорошо подпирали и шекспировскую, и классицистскую, и барочную драматургию: героям трагедий вечно приходится выбирать между долгом и чувствами. И неважно, политическим был этот долг, как у императора Тита в «Беренике» Жана Расина, сыновним, как у шекспировского Гамлета, или долгом супружеской верности, как у дона Гутьерре в драме Педро Кальдерона «Врач своей чести» — фактически обязательства перед семейной честью тоже являлись частью долга политического. Любовь в этой иерархии ценностей всегда оказывалась жертвой, честь и долг должны были победить. Но следить за борьбой двух китов публике не надоедало много веков.
В эпоху романтизма проснулся и занял главенствующую позицию третий кит: перед единственной всепоглощающей страстью, снедающей душу героя, должны были отступить и любовь, и политика. Страсть гнала героя по миру, становилась его путеводной звездой, его даром и его проклятием. Страсть заслоняла и самую человечность.
В эпоху романтизма проснулся и занял главенствующую позицию третий кит: перед единственной всепоглощающей страстью, снедающей душу героя, должны были отступить и любовь, и политика. Страсть гнала героя по миру, становилась его путеводной звездой, его даром и его проклятием. Страсть заслоняла и самую человечность.
На эту волну настроен и русский текст дуэта «Я знаю его»: «В его судьбе должно быть что-то важнее, чем я», — поет Флоренс о Сергиевском. И Светлана отлично понимает, что именно: «Он полон грёз, но он свободен». В английском тексте обе женщины советского шахматиста отмечают, что Анатолию нужно то, чего они не могут дать: "security" — то есть «защищённость, стабильность, безопасность», — которой нет у Флоренс, и "his fantasies and freedom" («его мечты и свобода»), которых не обеспечивает уже Светлана.
Но если в историях классицизма и барокко зерно конфликта оставалось неизменным, менялся лишь антураж и мелкие детали интриги, то страсти героев романтических сюжетов вырастают непосредственно из обстоятельств их жизни. Меняются и сами герои. Романтическая литература и драматургия выбирает в протагонисты поэтов, художников, ученых, музыкантов: тех, кто способен постигать мир и творить собственный. В центре сюжета могут оказаться священники, усомнившиеся в вере, тираноборцы, жаждущие свободы, изгнанники, ищущие примирения с миром и богом. Любовь и политика, несомненно, в их жизни могут присутствовать, но меркнут перед подлинной страстью, перед делом их жизни. А полное упоение главным делом непременно должно привести героя на вершину (разумеется, одинокую, ведь места для двоих на ней попросту нет).
В «Шахматах» высокой страстью — в совершенно романтическом смысле слова — обуреваемы оба центральных героя. На пути к вожделенной высоте каждый из них может казаться окружаюшим странным, не вписываюшимся в привычные нормы поведения; может становиться предметом сплетен и общественного осуждения. Газеты пишут о скандальном поведении чемпиона мира, но никто не ценит его гамбиты — однако чемпион идет своим трудным путем: к вершине можно прийти только пережив испытания, шаг за шагом.
"Maybe he walked, cable car scares him" («Может быть, он решил подниматься пешком, он боится канатной дороги») — оправдывается за опаздывающего чемпиона Флоренс. Может быть, она просто шутит, но при всех причудах Фредди — может быть, и нет. Не исключено даже, что и сам выбор места встречи не случаен: Сергиевский ведь тоже может знать, что Фредди канатную дорогу не жалует. Но если ваш класс игры выше обычного, то и отношения приходится выяснять на высоте. По крайней мере до тех пор, пока речь об игре.
В «Шахматах» высокой страстью — в совершенно романтическом смысле слова — обуреваемы оба центральных героя. На пути к вожделенной высоте каждый из них может казаться окружаюшим странным, не вписываюшимся в привычные нормы поведения; может становиться предметом сплетен и общественного осуждения. Газеты пишут о скандальном поведении чемпиона мира, но никто не ценит его гамбиты — однако чемпион идет своим трудным путем: к вершине можно прийти только пережив испытания, шаг за шагом.
"Maybe he walked, cable car scares him" («Может быть, он решил подниматься пешком, он боится канатной дороги») — оправдывается за опаздывающего чемпиона Флоренс. Может быть, она просто шутит, но при всех причудах Фредди — может быть, и нет. Не исключено даже, что и сам выбор места встречи не случаен: Сергиевский ведь тоже может знать, что Фредди канатную дорогу не жалует. Но если ваш класс игры выше обычного, то и отношения приходится выяснять на высоте. По крайней мере до тех пор, пока речь об игре.
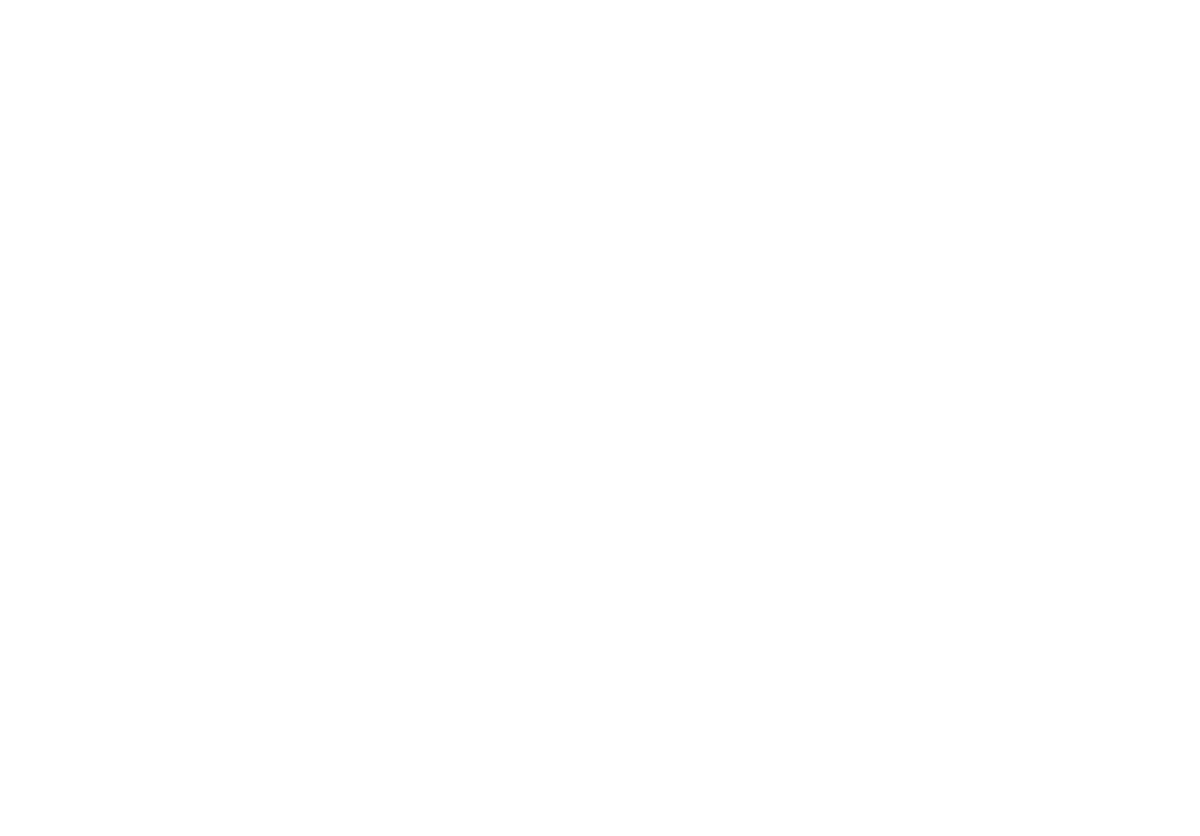
Флоренс явно отличается от прочих шахматных секундантов: она не известный игрок, не официальный сопровождающий «в штатском», она единственная женщина в мужском шахматном мире. Не потому ли журналисты проявляют к ней такой интерес, что само явление подобного секунданта нарушает неписаные правила и выбивается из традиций? Такой выбор Фредди — ещё один вызов миру. А может быть, и известная демонстрация пренебрежения.
«Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный», — представляет своего секунданта, месье Гильо, на дуэли Онегин. В честности Флоренс, конечно, тоже не может быть никаких сомнений. Как и в ее неизвестности.
«Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный», — представляет своего секунданта, месье Гильо, на дуэли Онегин. В честности Флоренс, конечно, тоже не может быть никаких сомнений. Как и в ее неизвестности.
Когда Фредди во время интервью пытается унизить оппонента, он задает ему вопросы о политике и женщинах. Фактически он пытается отказать Сергиевскому в праве на чемпионство, в праве покорить вершину. В праве жить той же страстью, что снедает и его самого, независимо от утраты титула.
Непризнанным гением романтический герой может быть. Но посредственностью — никогда. Возможно, потому-то на русского шахматиста так действует последний аргумент волшебного помощника: не дай победить посредственности. Не дай превратить наш общий мир (и в этой сцене Фредди наконец признает мир игры, мир шахматной страсти общим для себя и Анатолия) в предсказумо филистерский, где страсти не останется места, а шахматы станут всего-навсего спортивными свершениями.
Игра как страсть, как одержимость не раз и не два оказывалась в центре внимания авторов. Азарт, свойственный игре — будь то карты, рулетка, кости или «однорукие бандиты», — мог быть сугубо отрицательным качеством личности и поводом для сатиры. Но душа игрока оказалась слишком притягательным объектом исследования для тех, кому всепоглощающая страсть казалась важнее ее прагматического смысла.
Сводя с ума своего Германна в «Пиковой даме» Пушкин, возможно, пародировал романтическую мономанию, а Достоевский, бросая в пучину рулетки Алексея Ивановича в «Игроке», иронизировал и над собственной зависимостью от азартных игр. Но сама игра достается обоим не только как средство обогащения или способ добиться любви. Карты или рулетка становятся способом бросить вызов судьбе, причем почти без надежды выиграть. Может быть, поэтому оба героя как нельзя лучше прижились в опере («Пиковая дама» Чайковского и «Игрок» Прокофьева), жанре, где страсти традиционно больше и благороднее людей, которые их испытывают.
Непризнанным гением романтический герой может быть. Но посредственностью — никогда. Возможно, потому-то на русского шахматиста так действует последний аргумент волшебного помощника: не дай победить посредственности. Не дай превратить наш общий мир (и в этой сцене Фредди наконец признает мир игры, мир шахматной страсти общим для себя и Анатолия) в предсказумо филистерский, где страсти не останется места, а шахматы станут всего-навсего спортивными свершениями.
Игра как страсть, как одержимость не раз и не два оказывалась в центре внимания авторов. Азарт, свойственный игре — будь то карты, рулетка, кости или «однорукие бандиты», — мог быть сугубо отрицательным качеством личности и поводом для сатиры. Но душа игрока оказалась слишком притягательным объектом исследования для тех, кому всепоглощающая страсть казалась важнее ее прагматического смысла.
Сводя с ума своего Германна в «Пиковой даме» Пушкин, возможно, пародировал романтическую мономанию, а Достоевский, бросая в пучину рулетки Алексея Ивановича в «Игроке», иронизировал и над собственной зависимостью от азартных игр. Но сама игра достается обоим не только как средство обогащения или способ добиться любви. Карты или рулетка становятся способом бросить вызов судьбе, причем почти без надежды выиграть. Может быть, поэтому оба героя как нельзя лучше прижились в опере («Пиковая дама» Чайковского и «Игрок» Прокофьева), жанре, где страсти традиционно больше и благороднее людей, которые их испытывают.
Рассудительность и спокойствие ума, которых требуют шахматы, казалось бы, азарту противоречат. Однако шахматный поединок как способ встречи с судьбой, как игра, ставкой в которой может быть и любовь, и самая жизнь — очень древний мотив. В церковных притчах, на различных фресках и картинах подобные сюжеты известны с XII века. Вдохновившись одной из таких фресок, Ингмар Бергман снял один из самых известных своих фильмов — «Седьмую печать», где рыцарь Антониус Блок играет в шахматы со Смертью.
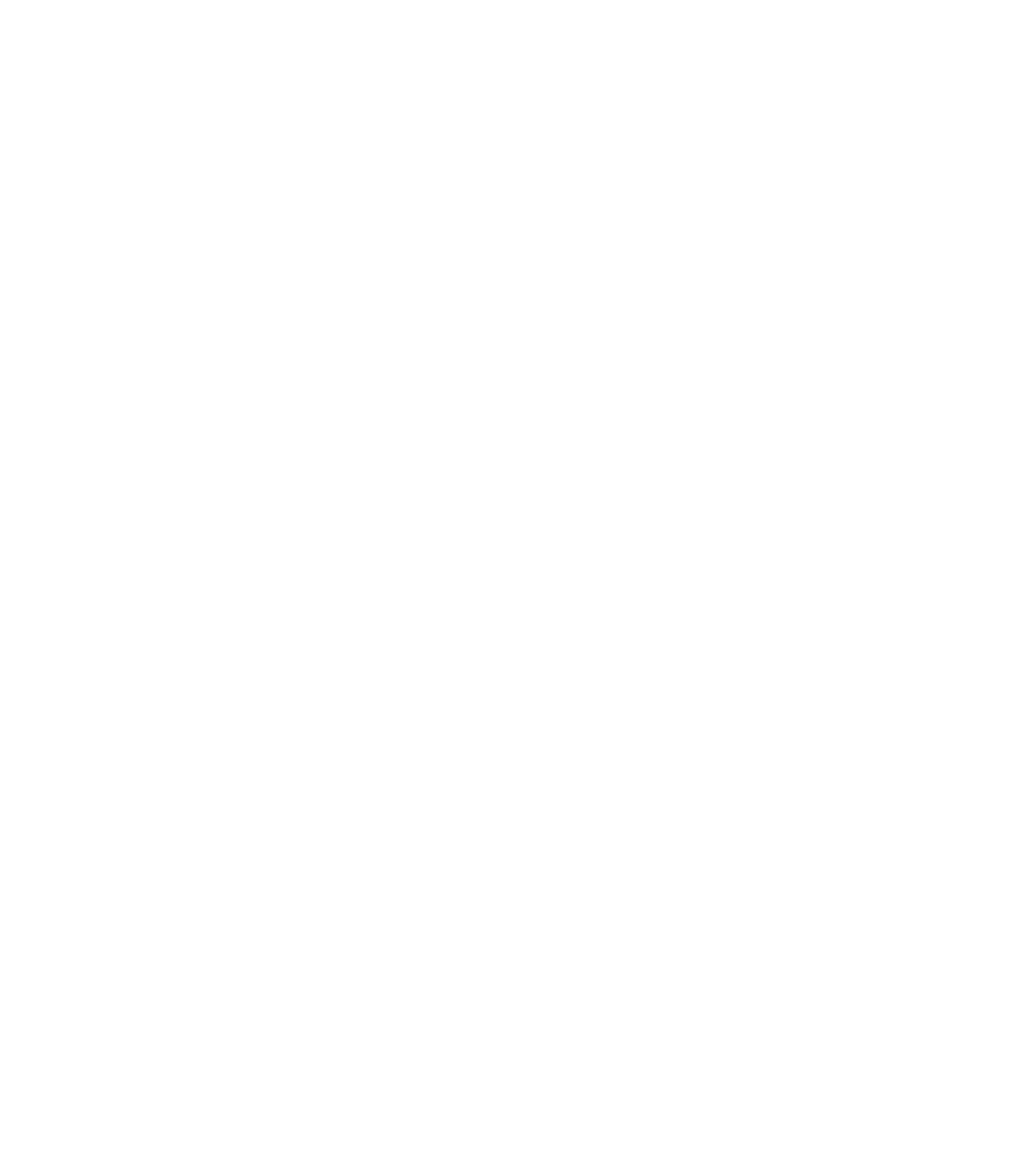
В шахматном мире задолго до появления кинематографа прославилась картина Фридриха Августа Мориса Ретча «Шахматисты» (1831), объединившая средневековые аллегории и романтическую страсть к жизни на краю пропасти, к превращению обыденного в роковое. На картине дьявол играет с человеком за его душу, и расстановка фигур на доске тщательно выписана. Всякому понятно, что у человека шансов нет. Через 30 лет после создания картины гениальный шахматист Пол Морфи, один из тех, чье имя звучит в открывающем «Финальный поединок» хоре, глядя на картину Ретча, объявил, что готов найти способ помочь юноше не проиграть партию и не погибнуть. Морфи в самом деле удалось решить задачу и свести партию вничью. Самого себя, впрочем, он не смог уберечь от безумия: не было ли это местью судьбы за вмешательство в ход игры?
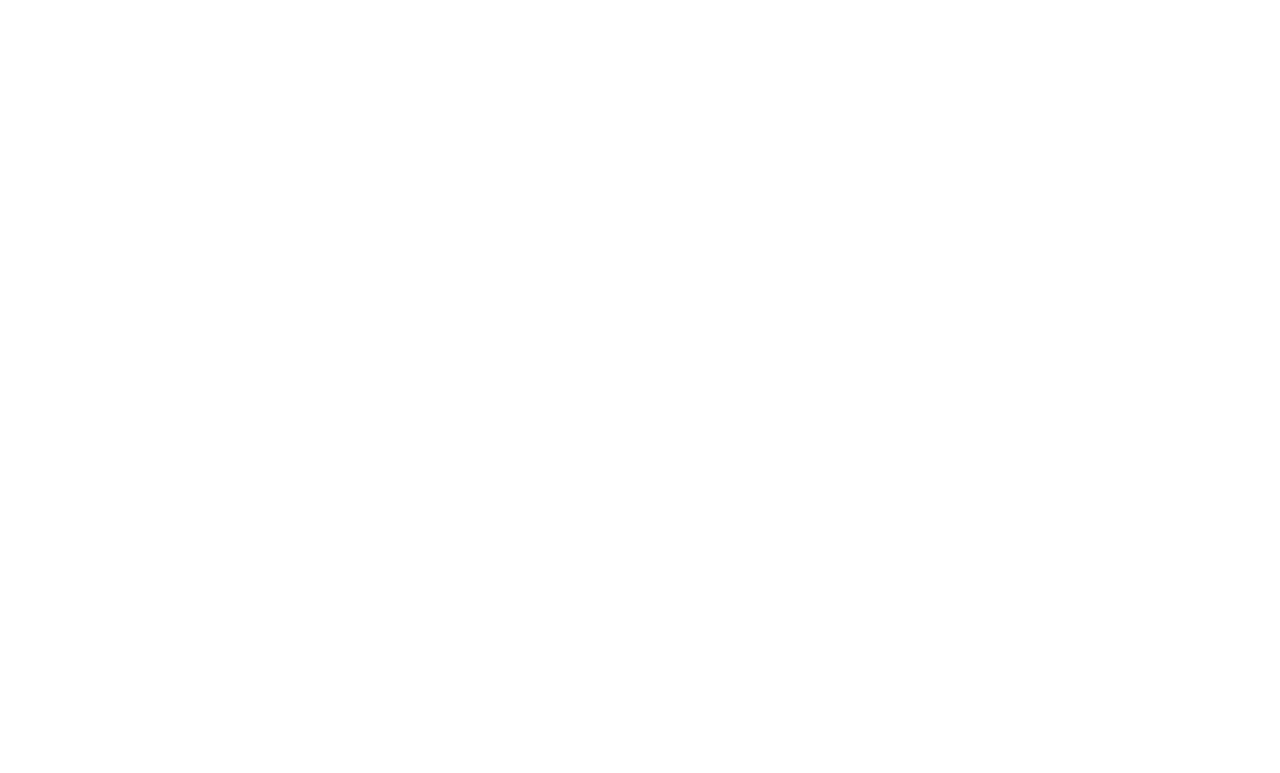
Благородным безумием великих шахматистов восхищался в посвященном мюзиклу интервью Александр Суханов, один из исполнителей роли Анатолия Сергиевского в московском спектакле. Но не только биографии реально живущих шахматистов дают повод для такого определения. Шахматной горячкой одержимы герои одноименного фильма, снятого в 1925 году во время и по поводу проходившего в Москве чемпионата мира. Одну из ролей, а именно самого себя, в этой немой ленте играет Хосе Рауль Капабланка, которому удается примирить героиню с маниакальной страстью ее возлюбленного к шахматным баталиям. Но «Шахматная горячка», при всей масштабности проблемы и всеобщей страсти к игре, всё же не трагедия. Увлечённость шахматами остается на территории комической развлекательности, шахматы вписываются в модную эксцентричность кинематографа эпохи НЭПа, а значит, хэппи-энд был неизбежен. Шахматы помещаются в уютную жизнь и квартирку, не претендуя на то, чтобы заместить собой весь мир. Гражданская война окончена, наступает нормальное время: игра становилась территорией взаимопонимания, а не противостояния.
На имени Капабланки достигает своей кульминации хор, посвященный чемпионам, в начале сцены «Финальный поединок». Четыре протяжных слога, распетых на «а»: знаменитый гроссмейстер оказывается удобен для воспевания даже своим именем, не только фактами биографии или улыбкой, по изяществу и светноносности сравнимой с гагаринской. Случайно ли той же темой, но без слов, открывается московский спектакль? Сумрак увертюры с замкнутой декорацией буквально взламывает оркестровое тутти: вступают все инструменты, включая ударные; створки раскрываются, шахматные клеточки осыпаются, давая возможность заглянуть в жизнь героев, которая без игры всё равно немыслима.
Такой опорой — черепахой, если продолжать космологические аллегории — для «Шахмат» оказывается удивительная способность всех обитателей мира говорить на одном языке и понимать друг друга без переводчиков. Хотя Флоренс, читая газеты, и упоминает «все языки Земли» (в оригинале скромнее — всего пять, то есть английский и четыре иностранных), de facto и итальянцы, и тайцы, и русские с американцами говорят на одном языке — на языке той страны, где исполняется мюзикл.
Шахматы уравновешивают и политику, и любовь. Плоский мир, на карте которого разместились США и Мерано, Бангкок и Советский Союз, Венгрия и Англия, уютно чувствует себя на спинах трех китов. Но для того, чтобы киты могли выдержать его тяжесть, им тоже нужна опора.
Шахматы уравновешивают и политику, и любовь. Плоский мир, на карте которого разместились США и Мерано, Бангкок и Советский Союз, Венгрия и Англия, уютно чувствует себя на спинах трех китов. Но для того, чтобы киты могли выдержать его тяжесть, им тоже нужна опора.
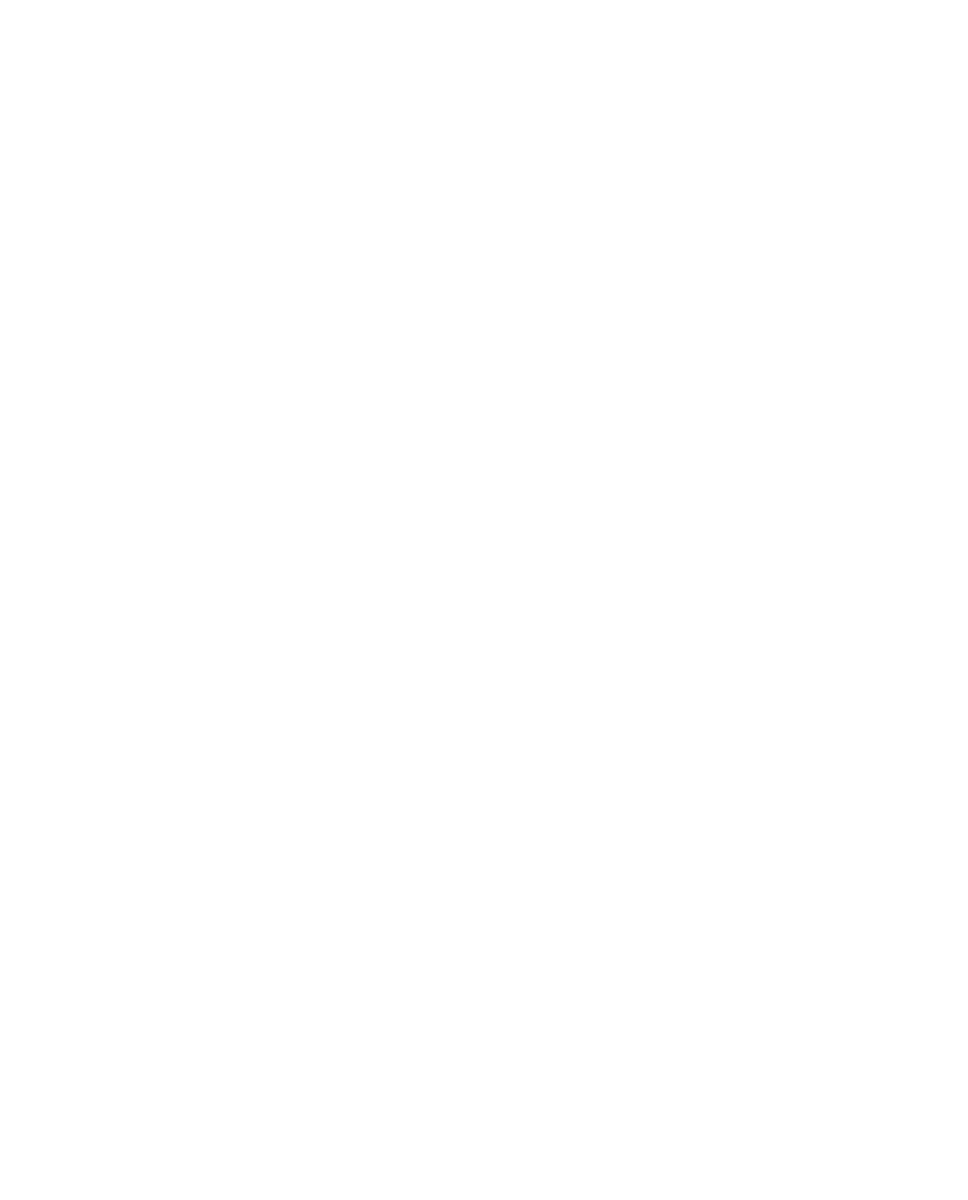
Сергиевский, видимо, выучил английский, пока делал шахматную карьеру. В русской версии во время «Дуэта в горах» он переходит в разговоре с Флоренс на немного ломаный русский («вы есть причина того») — возможно, такое неестественное строение предложение должно напомнить нам, что говорит он на самом деле не на родном языке.
Или — на языке единых чувств. Филолог и музыковед Борис Гаспаров, рассуждая об оперных либретто и романтической поэзии, отмечал, что отсутствие языкового барьера между героями разных наций и культур — отличительное свойство именно поэтики романтизма, помещающего своих героев в пространство чувств и эмоций.
Русский офицер в «Кавказском пленнике» Пушкина легко находит общий язык с юной черкешенкой. Француз Ги де Монфор, герой «Сицилийской вечерни» Верди, может без переводчика говорить с сицилийцами. Эфиопская рабыня Аида и египетский полководец Радамес способны обсуждать друг с другом и любовь, и войну.
Языковой барьер возникает там, где автор претендует на реализм и озабочен бытовой достоверностью выстраиваемого им мира. В рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» испанцы в Калифорнии говорят по-испански, а русские моряки — по-русски. Итальянские авантюристы Вальцакки и Аннина в «Кавалере розы» Рихарда Штрауса говорят с венцами на ломаном немецком, а между собой — по-итальянски; на родном языке исполняет арию и приглашенный виртуоз, Итальянский певец.
Общий язык означает фундаментальное сходство, разные — фундаментальное различие. Лермонтовский Печорин сперва не может объясниться с любимой Бэлой, а понять её оказывается неспособен и после того, как та немного осваивает русский. Фальстаф в опере Антонио Сальери смиренно слушает рассуждения переодетой Алисы Форд на ломаном немецком, восхищаясь умом и образованностью визитерши, но не понимая ни единого слова — и не осознавая, как именно его дурачат.
Языковой барьер возникает там, где автор претендует на реализм и озабочен бытовой достоверностью выстраиваемого им мира. В рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» испанцы в Калифорнии говорят по-испански, а русские моряки — по-русски. Итальянские авантюристы Вальцакки и Аннина в «Кавалере розы» Рихарда Штрауса говорят с венцами на ломаном немецком, а между собой — по-итальянски; на родном языке исполняет арию и приглашенный виртуоз, Итальянский певец.
Общий язык означает фундаментальное сходство, разные — фундаментальное различие. Лермонтовский Печорин сперва не может объясниться с любимой Бэлой, а понять её оказывается неспособен и после того, как та немного осваивает русский. Фальстаф в опере Антонио Сальери смиренно слушает рассуждения переодетой Алисы Форд на ломаном немецком, восхищаясь умом и образованностью визитерши, но не понимая ни единого слова — и не осознавая, как именно его дурачат.
Единственный номер «Шахмат», который претендует на этнографичность, — это звучащая по-немецки песенка Der kleine Franz в таверне «Мерано». Но ее драматургический смысл важнее этнографического: для говорящих на одном языке Флоренс и Сергиевского немецкая песня, непонятная обоим, маркирует враждебную языковую среду и, шире, враждебный обоим мир. Прячась от него, они (согласно ремарке в либретто оригинальной лондонской постановки 1986 года) выходят на террасу, куда не доносится шум, и где можно говорить тем, кто готов к диалогу.
В чикагской версии «Шахмат» 1990 года с помощью реплик на русском языке за враждебный героям мир отвечает следящий за Сергиевским агент КГБ — тот самый, что просит передать соль для суси.
В этом же спектакле, где все разговаривают много и подробно, где и география, и политика, и быт выстроены в мельчайших подробностях, появляется и неодолимый языковой барьер: Флоренс и Анатолий в Будапеште не могут понять женщину, говорящую по-венгерски; ни английский, ни русский им в этом помочь не могут. В бродвейской версии 1988 появились венгерская народная песня и колыбельная — непонятные ни большинству персонажей, ни большинству слушателей. Идиллическое воссоединение недостижимо, потому что непостижимо само прошлое.
В этом же спектакле, где все разговаривают много и подробно, где и география, и политика, и быт выстроены в мельчайших подробностях, появляется и неодолимый языковой барьер: Флоренс и Анатолий в Будапеште не могут понять женщину, говорящую по-венгерски; ни английский, ни русский им в этом помочь не могут. В бродвейской версии 1988 появились венгерская народная песня и колыбельная — непонятные ни большинству персонажей, ни большинству слушателей. Идиллическое воссоединение недостижимо, потому что непостижимо само прошлое.
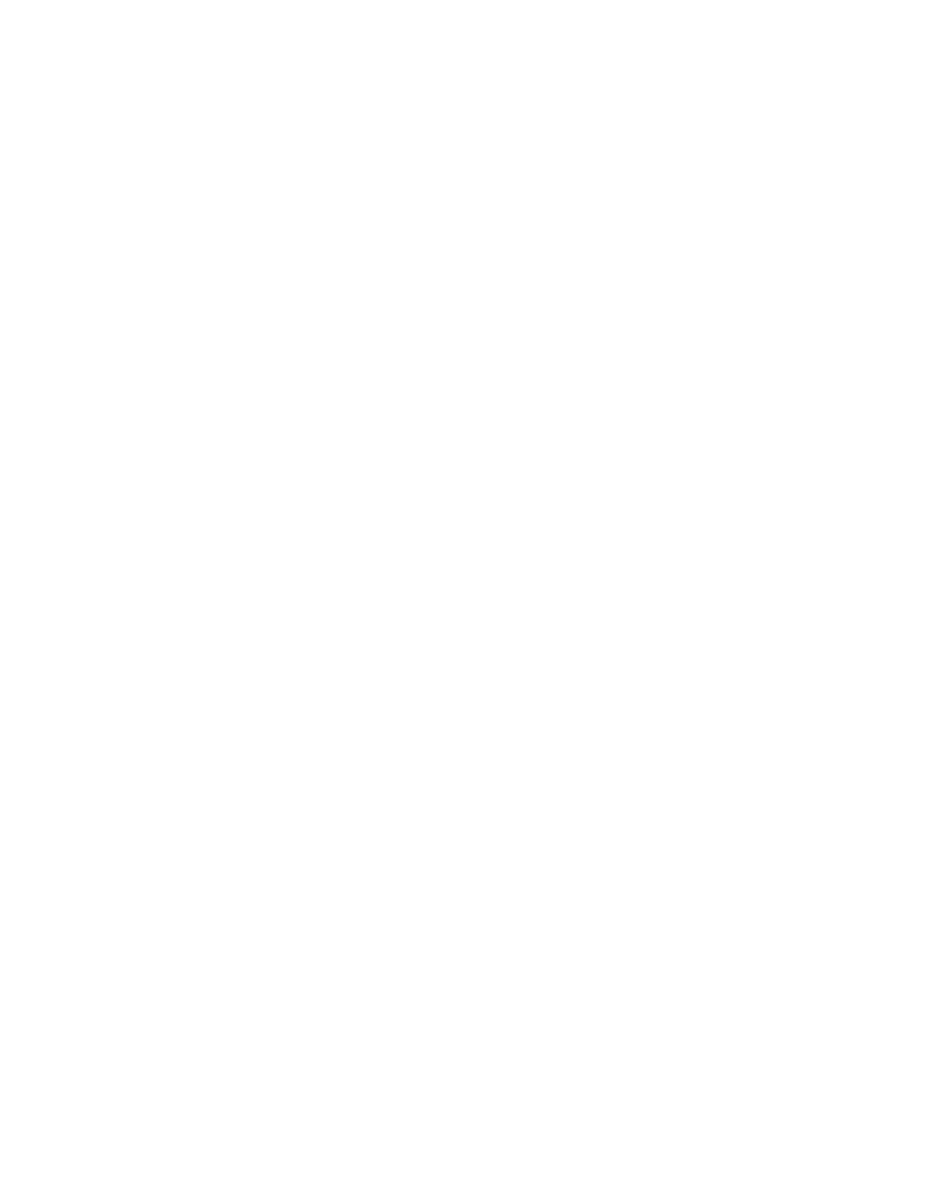
Идеальной и универсальной ситуацией взаимопонимания остаются собственно шахматы. Игра, не требующая слов. Игра, правила которой едины на всех языках земли. Возможно, поэтому в партитуре мюзикла собственно шахматные поединки написаны как симфонические антракты? Игра для острого ума оказывается универсально понятной и — без слов — способной объединить и игроков, и зрителей. Как и «Шахматы».