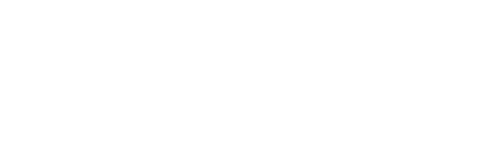АЯ МАКАРОВА И ТАТЬЯНА БЕЛОВА
ДЛЯ @BWAYMSK
ДЛЯ @BWAYMSK
15. Живи и помни
Многие постановки открывает ансамблевый номер об истории игры, часто с балетом (обычно неудачным). Бродвейская постановка 1988 года начинается с того, что лидер венгерских повстанцев Грегор Васси рассказывает дочери историю шахмат; шахматы — всё, что остаётся от её детства. В шведской версии 2002 года историю шахмат сыну рассказывает Анатолий Сергиевский. В спектакле Английской национальной оперы 2008 вместо этого он дарит ему часы. Так или иначе, с истории шахмат начинается история в «Шахматах», а сама игра сразу заявляет о себе как о способе установить и сохранить связь с прошлым, что бы ни происходило вокруг.
Выбор, сделанный в российской версии, делает партию более затяжной и сложной. Часы — часть семейной истории, но, возможно, и намек на преемственность шахмат как профессии. В версии американского турне 1990 года отец Флоренс — автор шахматного учебника, по которому занимался Сергиевский. «Будешь хорошо учиться — станешь таким же великим шахматистом, как твой папа», — наставляет Ваню товарищ Молоков в спектакле Евгения Писарева. Не исключено, что и сам Сергиевский получил свой шахматный дар от родителей. Возможно — вместе с часами.
Выбор, сделанный в российской версии, делает партию более затяжной и сложной. Часы — часть семейной истории, но, возможно, и намек на преемственность шахмат как профессии. В версии американского турне 1990 года отец Флоренс — автор шахматного учебника, по которому занимался Сергиевский. «Будешь хорошо учиться — станешь таким же великим шахматистом, как твой папа», — наставляет Ваню товарищ Молоков в спектакле Евгения Писарева. Не исключено, что и сам Сергиевский получил свой шахматный дар от родителей. Возможно — вместе с часами.
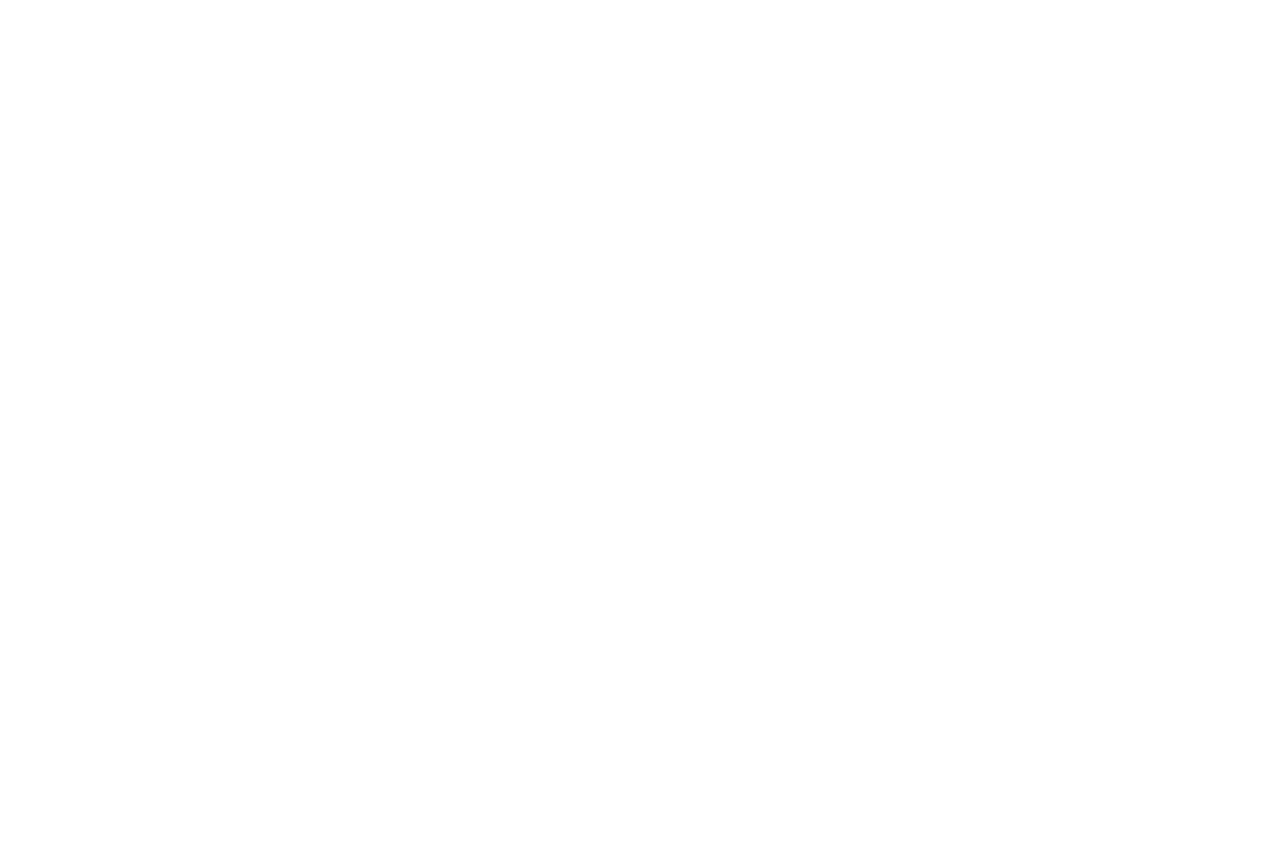
Запоминающаяся мелодия часов возвращается в первом акте — в «Квартете». Трампер сорвал игру и покинул зал. Арбитр гневно выслушивает позиции сторон, Молоков и Флоренс рассуждают о политике. Сергиевский долго отмалчивается. О политике ему сказать нечего, он не говорит ни о чем, кроме шахмат. И шахматистов: в квартет он вступает только тогда, когда нужно охарактеризовать своего партнера и затем — игру, образец спокойствия и этикета. Удивительным образом в его высказываниях сочетаются как будто бы отсутствие азарта (плавные вокальные строчки, неспешная речь, построенная на долгих длительностях и убаюкивающих мягких согласных) и ехидное подначивание по смыслу. Анатолий здесь являет себя образцом шахматиста — внешняя сдержанность скрывает коварные атаки. За несколько строк своего куплета он успевает отметить, что у Трампера серьезные проблемы с психикой, притворно пожалеть Флоренс, намекнув на ее корыстолюбие и некомпетентность, наконец, впрямую пообещать ей проигрыш чемпиона и, соответственно, понижение ее собственного статуса.
Не один Фредди — мастер неполиткорректных заявлений. На концепт-альбоме Сергиевский позволяет себе такое заявление: "Through the elegant yelling of this compelling dispute, comes the ghastly suspicion my opposition's a fruit" — «Пока в ходе этой захватывающей дискуссии все изящно друг на друга орут, я не могу удержаться от подозрения, что мой оппонент...» Разумеется, просится перевод: «тот ещё фрукт», но «a fruit» — одно из характерных для того времени эвфемизмов, что-то вроде русского «голубой», только покрепче. Для Анатолия, выходит, это что-то плохое; Флоренс сразу встаёт на защиту партнёра, то есть негласно принимает правила игры.
Что ж, советская гомофобия — не новость, но западным слушателям в такой ситуации несимпатичными могут показаться оба собеседника. Так что это обвинение в англоязычных версиях принято с тех пор менять на более допустимое, например "a nut" — «псих». «Так несдержан и зол он, словно сошёл он с ума,» — удар по больному, ведь психическая стабильность чемпиона мира в самом деле под вопросом.
Добавим, что отец Фредди тоже подозревал, если верить арии «Как же мне жаль», что его сын "queer". Сегодня слово «квир» воспринимается положительно, но это результат так называемого реклейминга, или переприсвоения: люди, которых на протяжении многих лет этим словом обзывали, решили использовать его сознательно и с гордостью. И нет, в значении «странненький» оно уже не употреблялось ни во времена создания мюзикла, ни во времена детства Фредди.
Что ж, советская гомофобия — не новость, но западным слушателям в такой ситуации несимпатичными могут показаться оба собеседника. Так что это обвинение в англоязычных версиях принято с тех пор менять на более допустимое, например "a nut" — «псих». «Так несдержан и зол он, словно сошёл он с ума,» — удар по больному, ведь психическая стабильность чемпиона мира в самом деле под вопросом.
Добавим, что отец Фредди тоже подозревал, если верить арии «Как же мне жаль», что его сын "queer". Сегодня слово «квир» воспринимается положительно, но это результат так называемого реклейминга, или переприсвоения: люди, которых на протяжении многих лет этим словом обзывали, решили использовать его сознательно и с гордостью. И нет, в значении «странненький» оно уже не употреблялось ни во времена создания мюзикла, ни во времена детства Фредди.
В третий раз мелодия часов звучит в финале, когда хор во главе с Арбитром рассказывает зрителям историю шахмат. Как и в оригинальном лондонском спектакле, «История шахмат» разрывает эмоциональный дуэт «Ты и я» холодным и нелицеприятным рассказом. Такой приём позволяет усилить эмоциональное впечатление от расставания героев и напомнить, что их маленькие жизни протекают на фоне мировых судеб.
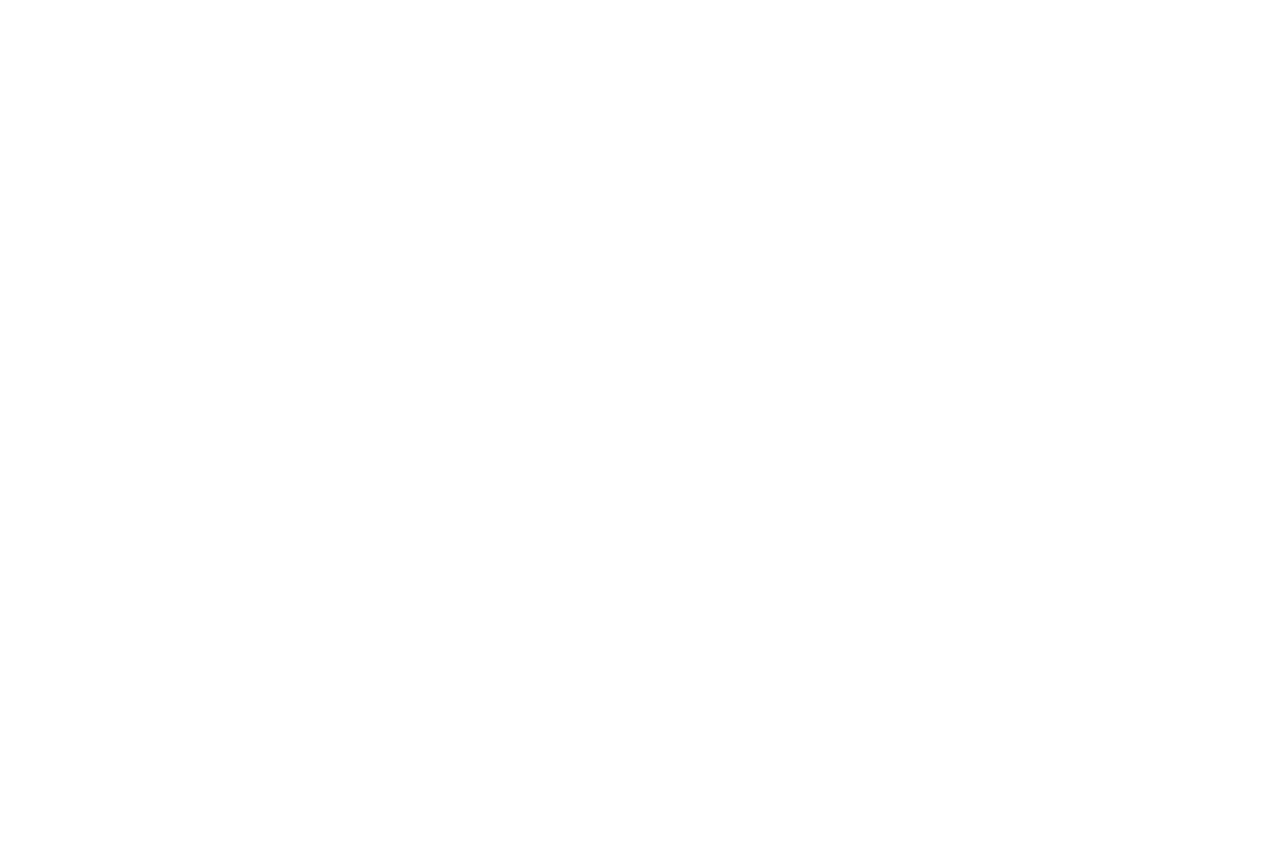
После телеинтервью Флоренс обвиняет Анатолия в эгоизме; по-английски она при этом особое внимание уделяет местоимениям: "It's always 'I' this and 'I' that, what happened to 'us'?" — «Ты постоянно говоришь „я то, я сё", а что сталось с „нами"?» Возможно, никаких «нас» и не было: даже финальный дуэт, когда у героев разрывается сердце от любви, называется «Ты и я».
Однако «История шахмат» — история не столько игры, сколько людей в кризисных ситуациях: двух воюющих принцев и их матери, беженцев из Константинополя... Пока игра объединяет мир, люди ополчаются друг на друга вне доски. Не зря же "each day got through means one or two less mistakes remain to be made" — «каждый прожитый день означает, что осталось совершить меньше ошибок». Жаль, но не жаль.
Алексей Иващенко, похоже, верит в людей. «Изысканная нить рассказа нашего» предназначена «пытливому уму», который в состоянии увидеть в шахматном матче не только войну, но и красоту, любовь, надежду. Тим Райс, как всегда, грустно циничен, и заканчивает хор иначе: весь мир интересуется шахматами, потому что важно, "who owns, who made, who will parade the champion of chess" — «кому принадлежит чемпион по шахматам, кто его создал и кто может им похвастаться».
Алексей Иващенко, похоже, верит в людей. «Изысканная нить рассказа нашего» предназначена «пытливому уму», который в состоянии увидеть в шахматном матче не только войну, но и красоту, любовь, надежду. Тим Райс, как всегда, грустно циничен, и заканчивает хор иначе: весь мир интересуется шахматами, потому что важно, "who owns, who made, who will parade the champion of chess" — «кому принадлежит чемпион по шахматам, кто его создал и кто может им похвастаться».
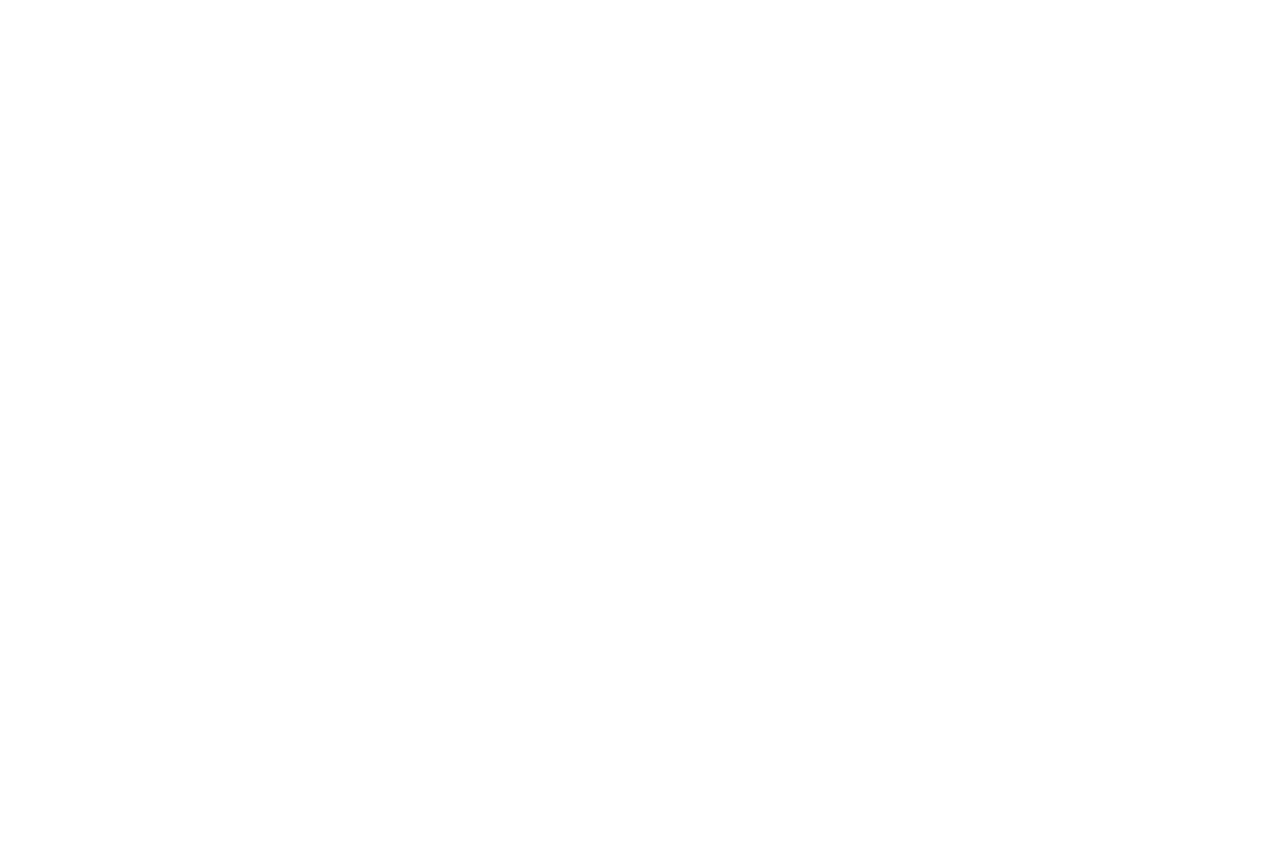
В английском слове "champion" при нормальном произношении всего два слога, но в «Истории шахмат» оно растягивается на три, чтобы сохранить стихотворный размер и музыкальный метр. Как с неудовольствием сказал бы Набоков, это слово занимает три места в стихотворной строке, заплатив лишь за два; хотя такое произношение правилам языке не противоречит.
Любопытно, что Алексей Иващенко, наоборот, заставил слово, заплатившее за три места, ужаться до двух, и в том же номере: «Лишь мудрецы помочь в беде сумели, дав ему [индийскому принцу] совет простой: использовать фигурки воинов на доске, чтоб дать понять, что виноват не он, а брат.» В слове воинов звуку «и» здесь приходится ужаться до «й».
Любопытно, что Алексей Иващенко, наоборот, заставил слово, заплатившее за три места, ужаться до двух, и в том же номере: «Лишь мудрецы помочь в беде сумели, дав ему [индийскому принцу] совет простой: использовать фигурки воинов на доске, чтоб дать понять, что виноват не он, а брат.» В слове воинов звуку «и» здесь приходится ужаться до «й».
Шахматы — обязательная часть реальности. Английский текст пронизан шахматными сравнениями, аллюзиями и каламбурами. В русском тексте шахматные метафоры редки и просты, нет даже напрашивающейся шутки о двойном значении слова «партия». Однако даже Светлана, максимально далёкая от игры, сравнивает отношения с мужем с шахматной партией — в дуэте «Я знаю его» и она, и Флоренс сокрушаются о своих ошибках, возникших от недостаточного мастерства и опыта.
Описать партию — или жизнь — получается только в шахматных терминах. «Нету у нас хода иного», — поёт о своём отъезде Анатолий. Хор, прежде чем рассказать об истории игры, комментирует завершающийся роман строчками «Знает каждый, что однажды может пешка выйти в ферзи, но как часто наше счастье мы не видим даже вблизи»: собственно, счастье, видимо, оказывается в том, чтобы пройти опасный путь, изменить статус и приобрести новые возможности, но оно прячется слишком далеко и потому остается гипотетическим. Партия проиграна, игроки оказались лишь фигурами, решения, которые казались им выстраданными и очень личными, на поверку лишь результат чужих точных расчетов. Можно закрыть занавес и сыграть заново — в надежде на то, что следующая партия пойдёт иначе. "Each game of chess means there's one less variation left to be played" (Каждая шахматная партия означает, что несыгранных стало на одну меньше), — утверждает хор в «Истории шахмат». Однако Флоренс и Анатолий отнюдь не уверены, что готовы переиграть: «Как потеряли мы в ходе игры нашу любовь, и смогли бы пойти на это вновь?» — спрашивают они сами себя в финальном дуэте. Ошибкой ли было решение чемпиона сохранить титул? Хор бесстрастно комментирует «Жертвовать всем, чтобы выйти в ферзи, слишком опасно!» Но и Анатолий, и Флоренс соглашаются с тем, что сыгранная ими партия была «прекрасным гамбитом», отказаться от которого оба не считают возможным.
Описать партию — или жизнь — получается только в шахматных терминах. «Нету у нас хода иного», — поёт о своём отъезде Анатолий. Хор, прежде чем рассказать об истории игры, комментирует завершающийся роман строчками «Знает каждый, что однажды может пешка выйти в ферзи, но как часто наше счастье мы не видим даже вблизи»: собственно, счастье, видимо, оказывается в том, чтобы пройти опасный путь, изменить статус и приобрести новые возможности, но оно прячется слишком далеко и потому остается гипотетическим. Партия проиграна, игроки оказались лишь фигурами, решения, которые казались им выстраданными и очень личными, на поверку лишь результат чужих точных расчетов. Можно закрыть занавес и сыграть заново — в надежде на то, что следующая партия пойдёт иначе. "Each game of chess means there's one less variation left to be played" (Каждая шахматная партия означает, что несыгранных стало на одну меньше), — утверждает хор в «Истории шахмат». Однако Флоренс и Анатолий отнюдь не уверены, что готовы переиграть: «Как потеряли мы в ходе игры нашу любовь, и смогли бы пойти на это вновь?» — спрашивают они сами себя в финальном дуэте. Ошибкой ли было решение чемпиона сохранить титул? Хор бесстрастно комментирует «Жертвовать всем, чтобы выйти в ферзи, слишком опасно!» Но и Анатолий, и Флоренс соглашаются с тем, что сыгранная ими партия была «прекрасным гамбитом», отказаться от которого оба не считают возможным.
Впрочем, метафоры — принадлежность речи, не действия. За доской оппоненты обходятся без слов. Музыка шахматного поединка из первого акта, когда Сергиевский играет с Трампером — продолжительный симфонический номер. Словами она обрастет лишь во втором действии, когда игра станет больше, чем просто спортом, когда её станет невозможно отделить от личного выбора. Когда Анатолий осознает и сформулирует, что шахматы — его судьба, его предназначение.
В «Финальном поединке» Флоренс обвиняет Сергиевского в том, что тот «единственный из нас, кто ни минуты не страдал». Едва ли обвинение справедливо, однако советский спортсмен, по крайней мере, единственный не противоречит сам себе в вопросах неравнодушного отношения к миру.
И Фредди, и Флоренс признаются, что в детстве они "taught myself not to care", приняли решение выучиться безразличию — и преуспели. Однако в «Сделке», после того, как переговоры заходят в тупик, оба они вместе с Анатолием восклицают: "I wish I had it in me not to care" — «Досадно, что я не могу не реагировать!» А по-русски Флоренс и в ссоре с любовником добавляет: «Ты мне предлагаешь проблему забыть, не думать о ней, но я так не умею!»
Видимо, в снах самообмана Фредди и Флоренс хотят видеть себя пресловутыми циничными дрянями — потому что так проще. А вот Сергиевский действительно показывает чудеса хладнокровия. По крайней мере в тех версиях «Шахмат», где во втором акте является на поединок вовремя и побеждает.
И Фредди, и Флоренс признаются, что в детстве они "taught myself not to care", приняли решение выучиться безразличию — и преуспели. Однако в «Сделке», после того, как переговоры заходят в тупик, оба они вместе с Анатолием восклицают: "I wish I had it in me not to care" — «Досадно, что я не могу не реагировать!» А по-русски Флоренс и в ссоре с любовником добавляет: «Ты мне предлагаешь проблему забыть, не думать о ней, но я так не умею!»
Видимо, в снах самообмана Фредди и Флоренс хотят видеть себя пресловутыми циничными дрянями — потому что так проще. А вот Сергиевский действительно показывает чудеса хладнокровия. По крайней мере в тех версиях «Шахмат», где во втором акте является на поединок вовремя и побеждает.
Словами, проясняющими и устанавливающими связь игры и реальности, по ходу спектакля обрастают все темы, изначально заданные как чисто музыкальные. Увертюра превращается в хор с перечислением великих шахматистов перед началом «Финального поединка». Мелодия игры — в развернутый ансамбль, в котором для Сергиевского в один узел стягиваются и отношения с обеими женщинами, и отношения с обществом, и представления о самом себе. Музыка же часов свое истинное предназначение открывает не сразу: пролог оборачивается подробной историей шахмат только к финалу, когда уже ничто не может измениться.